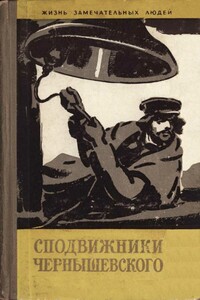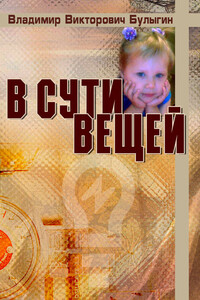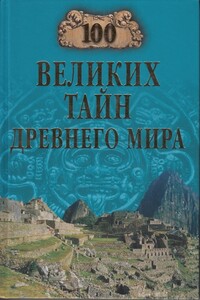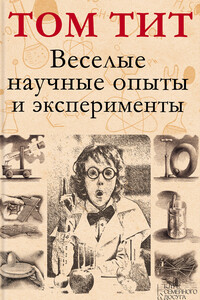Мысли перед рассветом (фрагмент) | страница 11
но и стоять в соответствии с тем огромным масштабом, в каком совершался процесс истребления. Почему же в таком случае каждая геологическая форма и каждый слой не переполнены такими промежуточными звеньями? Действительно, геология не открывает нам такой вполне непрерывной цепи организмов, и это, быть может, наиболее естественное и серьезное возражение, которое может быть сделано против теории отбора. Объяснение этого обстоятельства заключается, как я думаю, в крайней неполноте геологической летописи". За протекшее со времени Дарвина столетие палеонтологи обнаружили массу новых останков в различных слоях, но ничего похожего на картину непрерывности не открылось нашему взору. Обратимся теперь к фактам, связанным с развитием индивидуального организма. В этом процессе удалось подметить много такого, что свидетельствует о появлении у зародыша вначале общих для класса или типа признаков, а уже затем -- специфических для данного вида. Эти поразительные факты могут быть осмыслены с двух точек зрения. Первая из них отрицает закон Геккеля-Мюллера "онтогенез повторяет филогенез". На этой точке зрения стоял великий эмбриолог Бэр, который говорил об этом законе следующее: "Если бы это было правильно, то в развитии некоторых животных не наблюдалось бы в преходящем состоянии образований, которые остаются навсегда лишь у выше стоящих форм... Молодые ящерицы имеют очень большой мозг. У головастиков есть настоящий клюв, как у птицы. Зародыш лягушки на первой стадии оказывается бесхвостым -- состояние, которое наблюдается лишь у высших млекопитающих, ибо даже взрослая лягушка имеет внутренний 84 хвост". Здесь, как мы видим, дается следующая трактовка указанного явления: онтогенез опережает филогенез; на уровне эмбриона как бы "проигрываются" варианты, которые потом будут зафиксированы в филогенетическом развитии. Но есть и другое объяснение, которое возникает естественным образом, если не отказываться от закона Геккеля-Мюллера: в эволюционном развитии форм все шло таким же образом, как и в эмбрионе, т.е. сначала возникали некие неспецифические "сборные типы", объединяющие в себе целый ряд конструктивных идей, а затем они специализировались. Оба эти объяснения не могут без насилия быть втиснуты в рамки селекционистской догмы, поскольку первое предполагает наличие в природе далеко идущих замыслов, т.е. той самой имманентной целенаправленности, которая является злейшим врагом дарвинизма, а второе противоречит одному из основных его положений -- что признаки высших форм развились лишь в конце эволюционного процесса в результате постепенного усложнения и приспособления. Надо заметить, что данные палеонтологии, похоже, подкрепляют первое объяснение: "сборные типы" реально не обнаружены, т.е. они, видимо, являются некоей абстракцией, которая, однако, реализуется в эмбрионе. По поводу второго объяснения дарвинисты любят иронизировать в таком стиле: "Некоторые договариваются до того, что типы и классы возникли раньше видов", считая это утверждение явным абсурдом. Однако по отношению к логичности своих собственных построений они проявляют требовательность, лежащую ниже самого минимального диктуемого здравым смыслом предела. Приведем только один из рассыпанных в дарвинистской литературе тысячами примеров. Советский биолог, яростно защищающий дарвинизм, сознается: 85