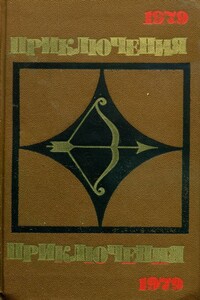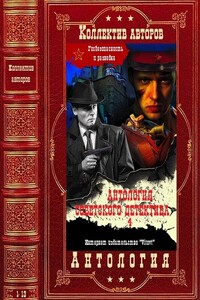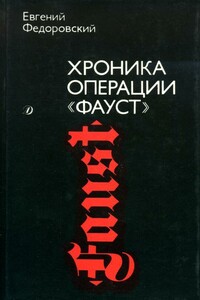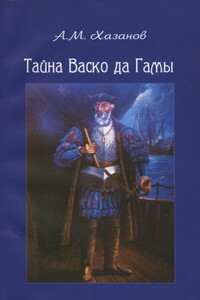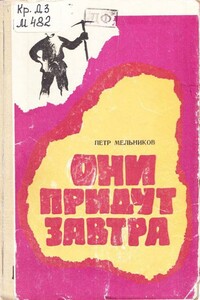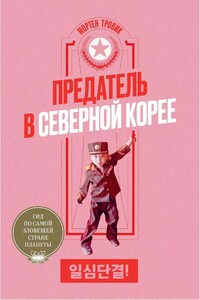Свежий ветер океана | страница 83
…Миша Русин был впечатлительным человеком. Он лазал по монастырю и молчал. О чем он думал? Что чувствовал? Может, ему в голову приходили те же мысли, что и мне? Мы разглядывали щербатую кирпичную кладку, бродили меж старых могил, по стершимся каменным плитам спускались в подвалы… «Отечество вырастает из своей истории», — вспоминались вдохновенные слова известного историка академика В. О. Ключевского. Мы, люди, тоже вырастаем из нее. Но мы можем забыть об этом, а история не забывает нас, тайными связями продолжая непрестранно воздействовать на сердце. Мы несем историю в себе, и она соединяет нас с бесконечной вереницей предков и их дел.
Говорят, что камни молчат. Не верю! У камней такой же богатый язык, как у немых. В этом языке есть и оттенки чувств, и блеск мыслей.
Ржавое кольцо, вмурованное в стену, уже сточилось от времени. Но чтобы его выломать, надо разобрать кладку. Какой цели служило оно в полутемной келье? Зачем понадобилось строителям вкладывать в цепкий известковый раствор длинный стержень кольца, да так, что никакой силе не вырвать его?
И тут пришла догадка. Да ведь это кольцо держало цепь. А к цепи был прикован человек!
Не только воином и хранителем древних икон и рукописей, проводником письменности и культуры был Соловецкий монастырь. Он был и страшной тюрьмой, не уступавшей Петропавловской крепости и Шлиссельбургу. В сырых и холодных каменных мешках с единственным зарешеченным окошком содержались самые опасные для царя и духовенства узники.
По жестокости режима Соловки не имели себе равных. Тех, кто попадал сюда, можно было сразу вычеркивать из списков живых. Об узниках не знали родственники, никто не видел их слез, не слышал их стонов, жалоб, проклятий. Многих бросали в подвалы со скованными руками и ногами, с вырванными языком и ноздрями, иных еще приковывали цепью к стене. В тюрьме Соловков, кишащей крысами, мучились сотни людей. Они не видели солнца, теряли счет годам. Если арестанты других тюрем еще надеялись на прощение, на соловецких заключенных оно не распространялось. Сюда ссылали на бессрочную каторгу, и приговоры пестрели выражениями: «Послать до кончины живота его», «Быть ему в вечных трудах до смерти», «Быть навсегда в тягчайшие труды скованным» и т. д. Грамотных арестантов непременно лишали бумаг, перьев, книг.
На главном дворе кремля у стены Петропавловского собора мы натолкнулись на могилу Петра Андреевича Толстого. Как попал сюда ближайший и деятельный сотрудник Петра I, сенатор и первый русский посол в Турции, президент Коммерц-коллегии и бессменный управляющий Тайной канцелярии, которая сама калечила людей и ссылала в те же Соловки, следователь по делу царевича Алексея, подписавший наследнику смертный приговор? Предчувствуя близкую кончину вдовы-императрицы Екатерины I, Толстой стал «вымышлять злые способы» лишить престола Петра Алексеевича, двенадцатилетнего сына царевича Алексея, и выбрать императора «по своей воле». Но всесильный Ментиков с князьями Долгорукими одержали верх в придворной сваре и посадили Петра II на престол. Толстой был лишен власти и богатств, сослан на Соловки. Здесь и пришла смерть.