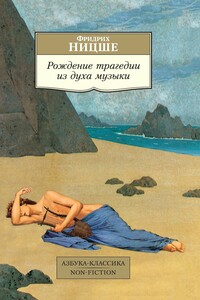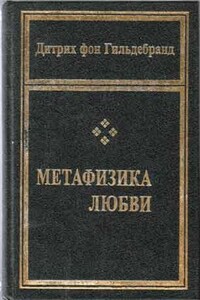Ницше contra Вагнер | страница 10
Как я освободился от Вагнера
Ещё летом 1876 года, в разгар первого фестиваля,{21} в душе своей я расстался с Вагнером. Я не выношу двусмысленностей; с тех пор, как Вагнер оказался в Германии, шаг за шагом он всё более склонялся ко всему тому, что я презираю — даже к антисемитизму…{22} Тогда и в самом деле был лучший момент, чтобы расстаться: подтверждение этому я получил почти сразу же. Рихард Вагнер, казавшийся триумфатором, на деле же прогнивший отчаянный декадент, внезапно, беспомощно и сломленно пал ниц перед христианским крестом… Неужели же ни у одного немца не нашлось тогда глаз для этого зрелища, не нашлось сочувствия к нему?.. Неужели я был единственным, кто страдал от него? — Но полно об этом, мне самому это неожиданное событие, словно молния, дало со всей ясностью увидеть, что за место я покинул, а также почувствовать дрожь, какую испытывает каждый, кто, не ведая того, подвергался чудовищной опасности. Меня трясло, когда я, уже в одиночестве, продолжил свой путь; вскоре после этого я оказался больным, больше, чем больным — усталым; усталым от невыносимого разочарования во всём, что только осталось в мире воодушевляющего для нас, современных людей; усталым от растраченных там и сям впустую сил, трудов, надежд, юности, любви; усталым от всей этой идеалистической лживости и изнеженности совести, которая здесь снова одержала верх над одним из храбрейших; усталым, наконец, и не в последнюю очередь, от тоски беспощадного подозрения, что отныне я приговорён недоверять глубже, презирать глубже, быть одиноким глубже, чем это когда-либо бывало со мной. Потому что у меня не было никого, кроме Рихарда Вагнера… Я всегда был приговорён к немцам…{23}
Тогда-то, оставшись в одиночестве и испытывая болезненное недоверие к самому себе, я, не без ожесточения, выступил против себя, взяв сторону всего, что именно мне было больно и трудно: так я снова нашёл путь к тому отважному пессимизму, являющемуся противоположностью всякой идеалистической лживости, а заодно, как мне представляется, путь к