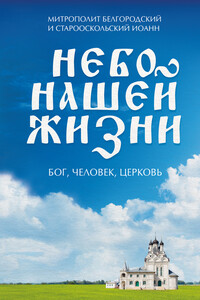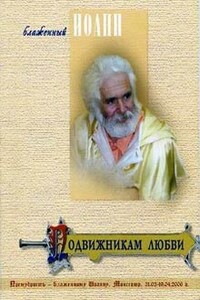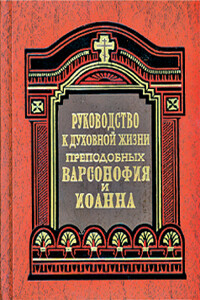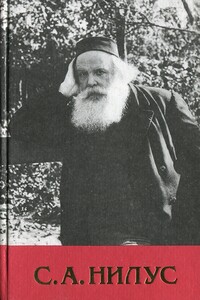Сборник статей Иоанна Шаховского | страница 51
Этот Божественный закон, трудно постигаемый мудростью, но лишь доверием любви к Законодателю, соблазнительный для иудеев-законников и являющийся безумием для эллинов-мудрецов, – этот Закон открыл миру – как откровение Истины – тайну двух путей человеческой свободы: широкого и узкого. Чрез все Евангелие проходит эта недомыслимая тайна, постижимая лишь через всесожигающую любовь к Богу. Это Божие пророчество об Истине Жизни и Смерти, о пшенице и плевелах – есть такой же Крест, как все Евангелие, и, помимо возвещения реальности, служит мерою веры-доверия человека к Богу и погубления своего ветхого добра, – того самого недоброго добра, той самой мало-справедливой справедливости, на которые праведно восстал Н. А. Бердяев, не дошедший только до конца своей эсхатологической этики, обернувшийся назад, – взглянуть на свое горящее старое философское отечество, и… остановившийся в созерцании оставленного.
Ветхий разум («кичащий», как мудро говорили свв. отцы) не приемлет тайны, одной из самых великих: тайны сыновнего свободного послушания «угонзания в Сигор» (см. Великий Канон св. Андрея Критского), из горящих городов. Он не имеет сил (евангельской любви) возненавидеть «отца и мать» – свои ветхоэтические категории: расстаться с философией своей «доброты», с культурой своей «справедливости».
Признать ничтожество своих этических оценок или хотя бы понять их относительность для надмир-ного Бытия, современному законническо-культурно-му сознанию человека столь же трудно, сколько законническому сознанию иудеев было принять своим Богом Страдающего на Кресте Человека, лишенного общественно-принятой этической нормы. То был соблазн, и это есть соблазн ложной культуры – не сыновней, не знающей Отца.
«Соблазн адом» есть соблазн ветхой этики, той «доброй» этики, которую творчески образумил Н.А.Бердяев, но из которой он сам до конца не вышел*****. Как на рубеже ветхой и новой эры человечества, две тысячи лет тому назад, человек-законник хотел ограничить Бога нормой высоты и отдаленности от земли, так и теперь человек, соблазненный законом ложной культуры, хочет ограничить Бога нормой этики своего меонически-нравственного масштаба.
Невозможно принять того, что ад есть «проблема». Это данность, если и испытуемая, то только как данность. Данность эта аналогична данности бессеменного зачатия.
Ад есть действительность, действительность антропо-демонологическая – безусловно восходящая поту сторону антропологической этики… Реальность «детей диавола» (Ин. 8; 44), творящих похоти «отца своего» и «ничего» (!) (Ин. 14; 30) не имеющих во Христе, изображена в Евангелии образом плевел, всеваемых врагом в пшеницу, невидимых в период роста всходов (история культуры), и только после какого-то времени замечаемых… Все это безмерно углубляет (и упрощает!) вопрос, делая его во всяком случае непосильным для той методологии, которой придерживается философия Бердяева, в этом пункте особенно теряющая соль своей эсхатологичности.