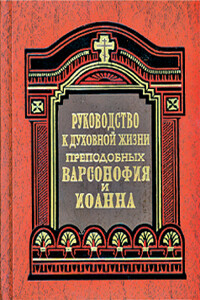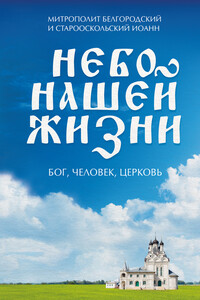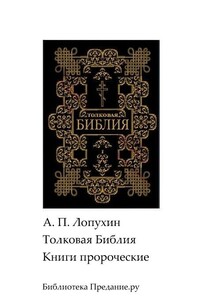Сборник статей Иоанна Шаховского | страница 42
Основной вопрос этической системы «назначения человека» – о творчестве остается, по существу, не решенным у Бердяева, хотя и намеченным, хотелось бы сказать, верно. Тупик вопроса этого в том, что в категориях христианского разума «творец» не может быть иным идеалом, чем «святой». Образ и подобие Божий должны открыться Духом в ответ на творческую самоопределительную свободу человека. Господь призывает творить добро и признает великим лишь сотворившего и потом уже научившего (Мф. 5; 19). Это и есть святость, ни предела коей, ни каких-либо единых форм нет. Форм столько, сколько лиц человеческих, и даже более.
Поставив проблему творчества, как человеческого назначения, Н. А. Бердяеву надо было бы (соответственно-значительно) выявить ложную онтологию творчества. Это проблема как раз его этики, но она далеко не достаточно раскрыта в книге, и читатель может быть близок к впечатлению, что в понимании творчества человека автор лишь косвенно отражает апостольский опыт – опыт двухтысячелетнего христианства, творившего в духе и истине. Наиболее значительная часть книги – о фантазмах, кроме остроты философского прогноза, еще и тема значительна, что является как раз анализом ложной онтологии творчества. К сожалению, автор не захватывает наиболее широкой области фантасмагории: фантасмагорию философского творчества, фантасмагорию лже-мудрости и лже-искусства человеческого, обоготворяющего хаос падшего космоса, являющегося соблазном ложной культуры, царствующей (вернее, княжествующей) в мире.
Не нужная и не отражающая действительности полемическая струйка, льющаяся в книге против некоторых свв. отцов**, может дать неверное направление мысли читателя, хотя возможно, что «тактически» является и благоприятным симптомом для круга некоторых лиц, приветствующих не только «свободу в Церкви», но и «свободу от Церкви». Весь опыт Церкви стоит на молитвенном творчестве («творить» молитву) и само «личное спасение», против которого так считает нужным вооружаться автор, есть по существу (в его подлинной, святоотеческой сути) нечто бесконечно отличное от узкоэгоистического замыкания души в свою самость. «Спасение мое» целиком (помимо всех творчеств!) вне меня-во Христе, а Христос-Спасение всех, Он Альфа и Омега жизни. В нем надо «погубить душу свою», «свое» творчество… Погубить можно только то, что имеешь… Невольно вспоминаются слова старца Нектария Оптинского: «Бог творит только из ничего… надо себя сотворить ничем, и Бог будет из тебя творить. Пресвятая Богородица более других сотворила Себя «ничем», и более всех вознесена Богом».