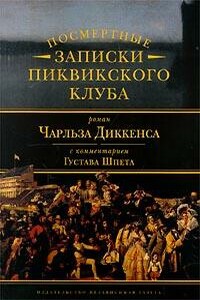Эстетические фрагменты | страница 36
(a) Как мыслимый он конечно и необходимо должен быть чист от чувственного, в противном случае мы должны были бы допустить, что мы и мыслим чувственно, т. е., примерно, бодрствуя спим. Логически ясное расчленение запутывают, однако, генеалогическим любопытством.
И чем бы современные мудрецы отличались от костлявых логиков — потому что им мало отличать себя от обычных смертных, — если бы они не вопрошали о «происхождении»? Образуется порода людей, завинчивающих свое глубокомыслие на том, чтобы не понимать, что говорит N, пока им неизвестно, каких родителей N сын, по какому закону он воспитан, каковы его убеждения и пр. Беда в том, что и тогда, когда они все это знают, они все-таки ничего не понимают, потому что их всегда раздирает на крошечные части сомнение, не лжет ли правдивый М в данном случае и не говорит ли правду лгун N в этом случае? В результате выходит, например, что никогда нельзя понять Гамлета, потому что неизвестно, верил Шекспир в Бога, когда сочинял свою пьесу, или не верил, пил он в то время Лиссабонское или простой стаут, предавался любостяжанию или смирялся душою, каялся и ставил свечки за упокой безвременно усопших любостяжателей. Или, на другой пример, вы думаете, что мчатся тучи, закружились бесы, и значит, что бесы мчатся и вьются, но это только ваша наивность, никаких бесов в природе не бывает, и генетическое глубокомыслие раскрывает вам глаза на истину — то — теща (родилась в таком-то году) утомленного (причины нейрастенические) поэта (кровь — направления по компасу ЮЮВ) шелестит над его ухом (любил Моцарта, не понимал Баха) неоплаченными (на сумму 40.000 рублей ассигнациями) счетами (фирмы и их адреса).
Логика понимания «из происхождения» — та же, что в аргументе, который пишущему это пришлось слышать от одного близкого ему юного существа, изобразившего в диктанте «щепку» через «ять» и мотивировавшего это тем, что «щђпка происходит от полђна».
Оставляя в стороне, по причине их вздорности, все теории происхождения, в том числе и теорию происхождения мысли из чувства, признаем, что поводом для мысли является все же именно чувственно данное. Оно — трамплин, от него мы вскидываемся к «чистому предмету». Так мы ходим как по вершинам гор — не нужно смотреть вниз, иначе начинается головокружение. Некоторые считают, что нельзя все-таки вовсе отвязаться от чувственных приправ представления, и ссылаются на «переживания» (например, американский психолог Тичнер). Отдадим им этот жизненный преферанс «богатого воображения», все же приправа не есть существо, и мысль остается мыслью, независимо от того, подается к ней соя или не подается.