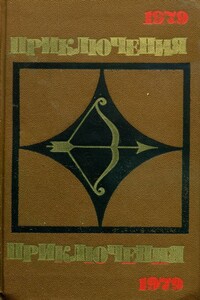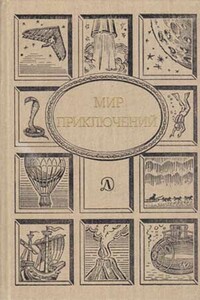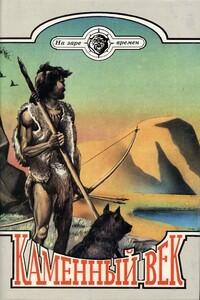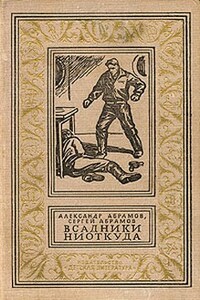Мир приключений, 1966 | страница 40
— Вы не договариваете, — усмехнулся я, вспомнив те же стихи. — Там дальше иначе: “…грустное дело езда в незнаемое. Ведь не каждый приедет туда, в незнаемое…”
На столе зазвонил телефон.
— Не каждый, — задумчиво повторил Никодимов, — наш шеф не приедет.
Телефон продолжал звонить.
— Легок на помине, — сказал Заргарьян. — Не подходи.
— Все равно найдет.
Езда в незнаемое была отложена до вечерней встречи в ресторане “София”, где свобода от начальственного вмешательства была полностью обеспечена.
Ольгу я не видел до ужина — она задерживалась в поликлинике. Поговорить о случившемся было не с кем: Галя не звонила, а Кленова я тщательно избегал из-за порой нестерпимой его дидактичности и даже сбежал из-за этого с редакционной летучки.
Почти час я бродил по улицам, дабы не прийти слишком рано и не торчать с глупым видом у ресторанного входа. Пытаясь собраться с мыслями, посидел у памятника Пушкину, по все услышанное утром было так ново и так удивительно, что даже обдумать это я так и не мог. В конце концов весь ход мыслей свелся к тому, как оценить мою встречу с учеными. Как небывалую удачу, счастье газетчика или как угрозу, которую всегда таит в себе непознаваемое? Я больше склонялся к “счастью газетчика”. Если бы лабораторный кролик мог рассуждать, он, вероятно бы, гордился своим общением с учеными. Гордился и я. Вторичным признаком счастья газетчика был тип ученого, к какому принадлежали мои друзья. Я где-то читал, что ученые делятся на классиков и романтиков. Классики — это те, кто развивает новое на основе старого, прочно утвердившегося в науке. А романтики — это мечтатели. Они интересуются смежными, даже весьма отдаленными областями знаний. Они выдвигают новое не только на основе старого, но чаще всего с помощью совершенно неожиданных ассоциаций. Свое восхищение этим типом ученого я и выразил как-то в одном журнальном очерке. Теперь меня столкнуло с ним счастье газетчика. Только романтики могли так смело и безрассудно грешить против разума, и, каюсь, мне очень хотелось продолжить свое участие в этом грехе.
С такими мыслями я и пришел на свидание не раньше, а даже позже моих новых друзей. Они уже дожидались меня у входа — улыбающийся Заргарьян и скромно тушующийся за ним Никодимов в старомодном чопорном пиджаке. Ему очень подошел бы стоячий крахмальный воротничок, какие носили в начале века: таким ветхозаветно строгим выглядел сейчас старый ученый. Зато Заргарьян был поистине неотразим: в темном дакроновом костюме с галстуком, спущенном ровно настолько, чтобы видеть позолоченную булавку, скреплявшую воротничок рубашки, закругленный на уголках, — он настолько пленил воображение тучного, лысоватого мэтра, что тот даже не заметил нас с Никодимовым. Мы шли сзади, с улыбкой наблюдая, как суетился он перед долговязым Рубеном, придирчиво оглядывая заказанный нами укромный столик в углу.