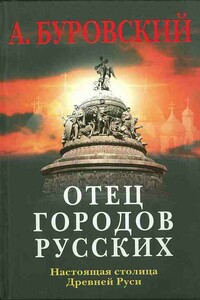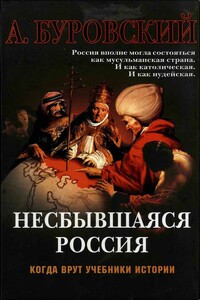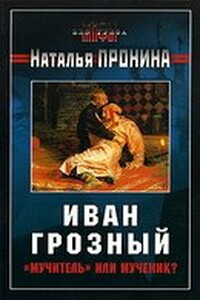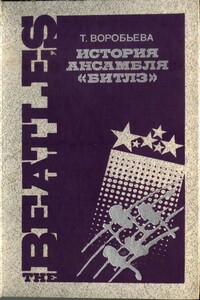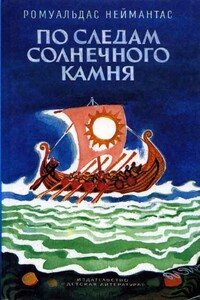Александр Невский — национальный герой или предатель? | страница 65
Например, согласно русским летописным свидетельствам, в 860 —1015 гг. даннические отношения народов Прибалтики с Новгородским княжеством как частью Киевской Руси поддерживались в основном регулярно и добровольно. Начиная с 907 года и на протяжении всего X столетия чудь (эсты) принимали участие в заграничных походах Олега и других русских князей на Царьград (Константинополь), что также было явным проявлением добровольных дружеских отношений чудских племен с русскими. С 1015 по 1030 г., в период междоусобиц сыновей Владимира I Крестителя, взимание дани русскими князьями со всех прибалтийских племен совершенно прекратилось. И лишь в 1030 г. Великий князь Киевский Ярослав Мудрый вновь восстановил этот обычай. В этом году он впервые строит на чудской и леттской земле крепости Юрьев (Тарту) и Герсик (Ерсику), задачей которых являлась оборона дальних подступов к русским границам, конкретно —от скандинавских викингов, которые нападали более всего на корсь, расселявшуюся на западном побережье Балтийского моря в Ирбенском заливе. Основной целью этих нападений было достижение Полоцка, расположенного далеко от моря на Западной Двине. Богатое Полоцкое княжество также имело свой активный форпост в Ливской и Леттской землях на нижнем течении Даугавы (Западной Двины) — крепость Кокнес (Кукейнос, Кокенгаузен) и распространило фактически свое влияние на всем течении Даугавы.
Исследователь подчеркивает: все эти обстоятельства создавали у русских князей уверенность, что дальние подступы Новгорода, Полоцка и Смоленска надежно защищены от вторжения, а у союзных Руси народов Прибалтики —уверенность, что в случае агрессии русские князья не пропустят захватчиков в свой регион, и, следовательно, сохранится неизменным и племенное статускво для ливов, леттов и чуди. Однако в начале XII столетия положение в Прибалтике резко изменилось, хотя опасное значение этих перемен не было сразу замечено и должным образом оценено ни местными народами, ни князьями Киевской Руси. «Из земли окраинной, тихой, неизвестной Прибалтика в какие-нибудь три-четыре десятилетия превратилась сразу в «проходной двор», в арену ожесточенных войн, в район разорения и истребительных набегов заморских пришельцев»[189].
А ведь началось все довольно просто, даже случайно. В 1158 г. к устью Западной Двины был прибит бурей корабль немецких купцов, которые таким образом открыли для себя новый, неизведанный край, населенный немногочисленным слабым племенем «язычников», настолько наивных и далеких от тогдашней европейской цивилизации, что у них с огромной выгодой можно было выменивать необходимые немцам товары. Ну а вслед за купцами в Прибалтику, разумеется, тотчас явились немецкие католические миссионеры из архиепископства Бременского.