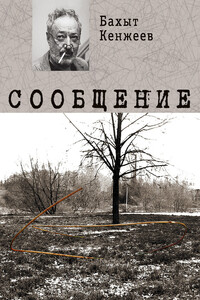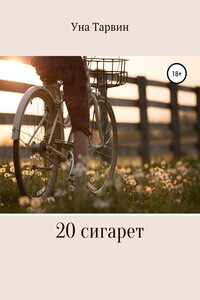Младший брат | страница 51
— Слушай, Марк, я тебя так редко прошу об одолжениях. Приезжай сейчас же, о'кей? За такси я могу заплатить. Пожалуйста.
— Не хотелось бы, но...
— Пожалуйста.
— Хорошо. — Он повесил трубку.
Отпускали его неохотно и прощались по-дружески. А на темной улице неистовствовала весна. И с первых же глотков свежего воздуха голова у Марка прояснилась окончательно. Горьковатый и густой воздух этот казался осязаемым, но был в то же время и невесом, и тягуч, а горечь объяснялась просто—раскидистый тополь у ворот склонился совсем низко, грех было не остановиться, не потянуться вверх и, словно в детстве, не отщипнуть губами набухшую почку. От липовых во рту сладковатая клейкость и запах лета, от этих—терпкость, смола. Близ Николы в Хамовниках—служба кончилась, но еще переливались огоньки внутри церкви — ему повстречалась серая «Волга» с четырьмя пассажирами, на полном ходу свернувшая в переулок. За нею проследовал небольшой фургон, ослепивший Марка сияющими фарами. Рокот его мотора и вызвал у него в памяти нехитрую виолончельную темку из Вивальди, преследовавшую его чуть ли не до самого дома.
Такси он так и не взял да и в метро спускаться не торопился. Был редчайший час, когда тело дышит памятью детства и юности, переполняется полузабытой радостью собственного бытия, когда от жизни хочется той самой роковой малости—остановить мгновение. Крепла музыка, раздуваемая ветерком, к виолончели добавился высокий, чуть жалобный клавесин, а может, просто чириканье воробьев, и басовые ноты проскальзывали в ней от неспешных троллейбусов, пустых, как и вся Остоженка в этот час, первых фонарей и первых звезд на чернильном небосклоне. Весна грустнее осени, весною журчат по мостовым чистые ручьи, блещет на обочине среди разноцветных кусочков гравия дореформенная медная монетка, проплывает над ней деревянная лодочка со спичечной мачтой, с бумажным парусом. Шумят, шумят городские ручьи, рождаясь там, где намела зима самые высокие сугробы... До самого марта лежали они, чернея, в московских двориках, засаженных сиренью, заваливали лавочку потемневшего, в трещинах, дерева, и на этот сад—а летом был настоящий сад, поверьте уроженцу белокаменной, были настурции, ноготки, раскачивались на мясистых стеблях малиновые диковинные цветы—так и не сумел припомнить названия, но в висячую чашечку целиком помещалась пчела, да и у шмеля торчал наружу только черно-желтый кончик брюха, и в минуту отчаянной смелости можно было изловить неосторожного лакомку, захлопнув пальцами толстые губы цветка — дамский башмачок, кажется, но только ни в коем случае не львиный зев, те были совсем другие,—на этот сад, где сейчас только голые ветки да осевший снег, смотрели пыльные окна вросших в землю особнячков, на припухшем слое старой ваты в двойных рамах красовались елочные шары, моточки серпантина, сверкающий серебряный шпиль. Сад, весь дворик обнесены кованой решеткой с чугунными шишаками, навинченными на прутья. Безжалостно разворовывают их окрестные мальчишки, сам грешен—до сих пор сквозь всю кочевую жизнь таскаю за собой этот тяжелый кусок металла, похищенный весенней ночью с помощью плоскогубцев, взятых у одноногого соседа-пьяницы. Лежит он себе в ящике облезлого комода, почти такого же, как у Марка, и тоже подобранного на свалке, а самой решетки и скрипучих ажурных ворот давно нет... и особнячков нет... и лавочки нет... Только весна и пережила того грузного старика, что с утра до вечера сидел под кустом сирени, улыбался блаженно, подставлял солнцу то одну, то другую морщинистую щеку, прислушивался к журчанию весеннего ручья и счастливо жмурился... Весна грустнее осени, весною кажется— настала пора исполнения желаний, все сбылось, все оправдается: вот-вот щелкнут костяшки счетов, подбивая радостный итог, и смолкнет музыка, будто никогда ее не бывало... и не повторится больше никогда...