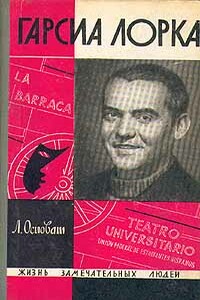Диего Ривера | страница 53
Возвращаясь домой поздно вечером, Диего пошатывался — от всего услышанного за день, от гордости, от восторга. То, что доныне влекло его безотчетно, теперь обнаружило смысл, да какой! Не подражанием, не игрой, не выделыванием иллюзорных подобий, а познанием жизни, соперничеством с нею, черт возьми, — вот, оказывается, чем могло быть, чем должно было стать искусство, его искусство!
Он опомнился только на улице Ла Монеда, у знакомого дома с двумя вывесками. Окна мастерской еще светились — там, внутри, работал неутомимый мастер. Давно Диего не заходил к нему… Он уже поднял руку, чтобы стукнуть в дверь, но вдруг заколебался: стоит ли? Сумеет ли он рассказать обо всем этому дону Лупе? Сумеет ли тот понять его?
Так и не постучав, он пошел своей дорогой.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
I
В 1901 году скончался дон Сантьяго Ребулл. Смерть его развязала борьбу, давно назревавшую в академии. Спор о том, кем заменить покойного профессора, перерос в дискуссию о реформе всей системы художественного образования. А дискуссия эта, выплеснувшись за пределы Сан-Карлоса, захватила, как часто бывает в странах, где более существенных реформ ожидать не приходится, широкие круги так называемого общества. Дебаты кипели и в университете, и в литературных салонах, и даже в аристократическом Жокей-клубе, завсегдатаи которого вместе с биржевыми сводками получали по телеграфу из Лондона сведения о том, какая стоит там погода, и, случалось, в жаркие дни выходили на улицу в плаще с пелериной лишь потому, что над британской столицей шел, дождь.
Необходимость перемен в мексиканском искусстве была признана почти единодушно — чопорный классицизм всем наскучил, — но выводы из этого делались различные. Богатые и чиновные законодатели вкусов не скрывали, что сыты по горло прославлением гражданских доблестей, античными позами и костюмами. Эпоха потрясений, слава богу, далеко позади; наслаждаемся мирным прогрессом, и художникам нашим давно пора вместо Давида и Энгра взять себе за образец по-настоящему современных, занимательных и приятных, а заодно и близких по крови испанских мастеров. Скажем, Соролью-и-Бастида, создателя солнечных морских пейзажей. Или Сулоагу с его живописными матадорами и цыганками.
— Как?! — возмущались либералы и патриоты, еще помнившие Хуареса и войну с французами. — Снова кланяться иноземцам? И это с нашими-то традициями, с древним индейским наследием, призванным питать великое национальное искусство! Да разве у нас нет своих художников, способных возглавить академию и сделать ее подлинно мексиканской?