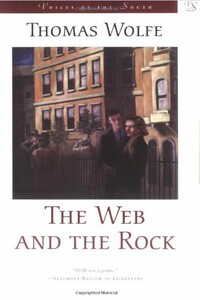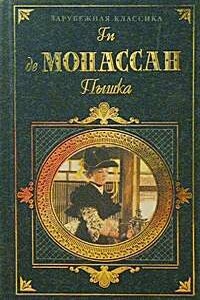Паутина земли | страница 29
— Ну, он, конечно, не хотел в больницу, но понял, что мы от своего не отступимся, и подчинился; они с Люком вернулись к нему в комнату, а я достала его костюм, и мы его одели. Стала я собирать ему вещи в больницу — ночные рубашки, халат, шлепанцы и всякое такое — и вижу: чистых рубашек нет, на нем — грязнущая, в ней стыдно пускать, а я знаю, что ему понадобятся рубашки, когда ему разрешат сидеть. «Куда девались твои рубашки? — говорю. — Что ты с ними сделал? Я помню, что положила шесть штук, не мог же ты их потерять, — говорю, — где они?» — «Они зажулили, они зажулили, — говорит, плаксиво так, и снова начинает бушевать: — Пусть подавятся! — кричит. — Изверги! Они разорили меня, погубили, они выпили из меня всю кровь, пусть теперь забирают остальное». — «Что ты говоришь? — говорю. — Кто — они?» А Люк говорит: «Да как же, мама, это китайцы, у которых прачечная. Они взяли его рубашки, — говорит, — да я сам их отнес, но это было неделю назад. — И говорит: — Я думал, он давно их забрал». — «Ничего, — говорю, — сейчас пойдем и заберем. Нельзя же пускать его в таком виде. Срам один!»
А он и рад: ступайте, говорит, правильно, я буду готов к вашему приходу — ну конечно, хочет один остаться и еще выпить. Я говорю: «Нет уж, извини, вместе с нами туда пойдешь».
— Отправились кое-как. Он вперед пошел с Люком, а Бен меня подождал. Бен, конечно, был гордый и не хотел ему помогать. «Я его чемодан понесу и пойду с мамой, — говорит, — не хочу, чтобы меня с ним видели». — «Почему это? — Люк говорит. — Он тебе такой же отец, как и мне, ты что же, стыдишься его?» — «Елки-палки, ясно, стыжусь! — говорит Бен (так прямо и сказал). — Не хочу, чтобы думали, что я его знаю. Не надейся, — говорит, — помогать я тебе не буду. Нянька я, что ли? — говорит. — А что надо было сделать, я все сделал».
Ну, идем мы по улице к этой прачечной — она была в квартале или двух от больницы, в старом кирпичном домике на углу, — подходим и видим: два китайца утюгами орудуют вовсю. «Ну, здесь, наверно», — говорю. «Здесь, здесь, — Люк говорит, — сюда я носил». Заходим мы, значит, туда, а китаец его спрашивает: «Я вас слусаю?» — «Слусаю, — говорит твой папа, — рубашку мою давай!» — «Позаста, — китаец говорит, — китаси. — И заладил: — Китаси, китаси». Ну, мистер Гант у нас выпивши и, конечно, не понимает. Разнервничался сразу, вспылил: «К черту твои китаси! Не нужны мне китаси. Рубашку отдавай!» — «А ну, подожди, — говорю ему, — а ну, успокойся. Я сама с ним поговорю. Если рубашки здесь, я получу их». Я-то уж как-нибудь, думаю, договорюсь с китайцем, разберусь с ним, в чем дело. «Ну-ка, — говорю и легонько так, знаешь, подмигиваю, — вы лучше мне растолкуйте. Чего вы хотите?» — говорю. А он свое лопочет: «Китаси, китаси». Ну, думаю про себя, человек вроде как человек — я же вижу, понимаю: сказать что-то хочет, объяснить этим своим «китаси». «Ага, — говорю, — понимаю: вы еще не выстирали?» Я подумала, конечно, что у них еще не готово, а потом — нет, думаю, не может быть, у них же целая неделя на это была. Времени, думаю, сколько угодно. А тут он и сам говорит: «Нет, китаси, китаси». А потом начинает что-то другому лопотать, и оба подходят к нам, и оба начинают верещать и галдеть на ихнем языке. «Ах так, — говорит твой папа, — сейчас я положу этому конец, клянусь богом, положу! Беспечен же я был, — говорит, — что допустил до этого». «А ну, — говорю ему, — успокойся, мистер Гант, сейчас я докопаюсь до сути. Если твои рубашки тут, я их получу». А эти китайцы спорят о чем-то между собой, и, видно, другой ему говорит, что мы не понимаем, потому что, смотрю, вытаскивает из пачки какую-то бумажку — я еще потом сказала Люку: можно подумать, что курица на ней наследила, — и, понимаешь, тычет в нее и твердит: «Китаси, китаси».