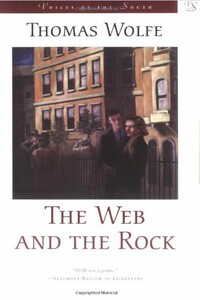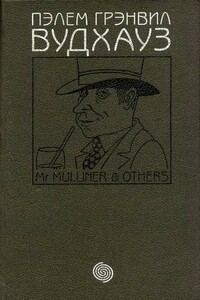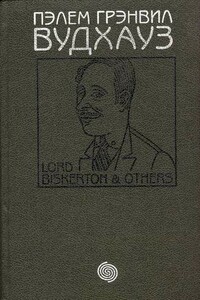Паутина земли | страница 16
— Ну, конечно, это дело открылось. Люди всё узнали, и твоему папе пришлось на ней жениться. И думаю, что в городе на него были порядком злы, сам посуди: янки — как говорится, окаянный янки приехал и двух женщин погубил; ладно, если бы одну, тогда, может, дело другое, но что двоих — этого уж они не могли переварить. Стало ему там жарко, пришлось уехать. Тут-то он и решил перебраться в Алтамонт: опять же у Лидии была чахотка, и он понадеялся, что горный воздух ей поможет. И думаю еще, он боялся, что сам заболел: жили они вместе, и он, видно, решил, что заразился. Когда я его первый раз увидела, он на покойника был похож. Ох! Представляешь, худой как щепка, желтый — все, наверно, от этих забот и неприятностей. Ну, а Лидия распродала свой товар — да и было там всего ничего, — магазин закрыла, и твой папа послал их вперед, со старушкой миссис Мейсон. А сам задержался ненадолго: хотел сбыть свой мрамор и денег собрать сколько можно, и потом тоже уехал... Вот как я их узнала: она держала шляпный магазин на углу, а у него была мастерская в старом сарае, на площади, в восточном конце. Вот еще когда это было.
Но я хотела рассказать тебе про эту женщину, про Элер Билс. И заметь, мальчик, пока он не переехал туда из Сиднея, она и знаться с ним не желала. Конечно, она и раньше была с ним знакома — она ведь была замужем за Джоном, братом Лидии, — но боже мой! — им было не по чину, понимаешь ты, не по чину якшаться с твоим папой, простым камнерезом, который так опозорил семью. Они просто рвали и метали, понимаешь, когда с Лидией случилась из-за него такая беда. Они разговаривать с ним не желали, не желали ничего общего иметь, он говорил, что они видеть его не могли — правда, и он их тоже. И на тебе: через полгода — это всякую гордость потерять надо — она прикатывает к ним. Конечно, она приехала, я думаю, потому, что ей ничего другого не оставалось: этот Джон Билс был дармоед и бездельник, содержать ее не мог, она написала Лидии и старушке миссис Мейсон, и они велели ей приезжать. А папа не знал, что она едет; сказать ему они боялись и решили, что пусть сперва приедет, а там они его уломают. Так оно и вышло: приходит он однажды обедать, и пожалуйте вам — сидит эта мамзель, намазанная, напудренная, разодетая в пух и прах, а он и ведать ничего не ведал. Я думаю, тут все обиды и вспомнились: он до того ее ненавидел, что даже разговаривать не стал, взял свою шляпу и к двери, а она подходит к нему — шляпка, конечно, челка, как у Лили Лэнгтри, и прочее, волосы так же носила, — обнимает его и говорит медовым голоском: «Неужели ты меня не поцелуешь, Вилл?» Ух! (Я потом уже говорила.) Подумать только! Мерзавка какая! Да ему бы тут же ей голову оторвать, и дело с концом! Говорит: «Почему мы не можем быть друзьями, Вилл?» Слыхал? Это после всего, что она вытворяла, подлещивается к нему и заигрывает, на глазах у его жены и тещи. «Не будем, — говорит, — вспоминать прошлое», — и заставляет поцеловать себя и все такое... «Поделом тебе, — я ему сказала, — за то, что дурак! Если в человеке столько глупости, так ему и надо». И он признал это, согласился. «Ты права»,— говорит. Одним словом, вот как она с ним очутилась.