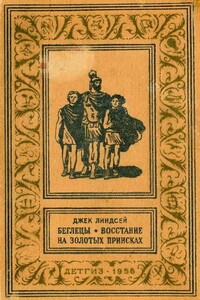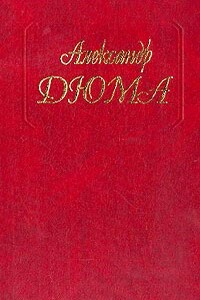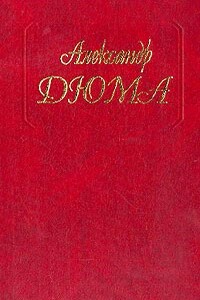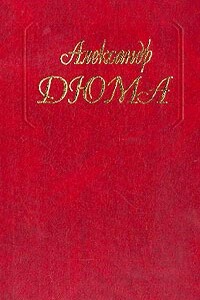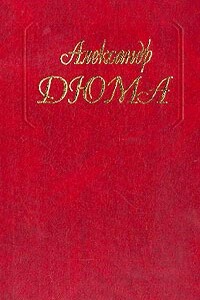Восстание на золотых приисках | страница 16
Они торопливо зашагали по направлению к дому, выбирая безлюдные тропинки и беседуя.
— Напильник — это вещь, — согласился Шейн. — Но он поднимет такой визг и скрежет, что покойники проснутся. Да что там, приличные покойники — это ещё полбеды. А вот легашей или каких-нибудь косоглазых доносчиков, будь они трижды прокляты, я предпочёл бы не будить.
— Вот что я тебе скажу, — ответил Дик. — Я спущу тебя в нашу шахту. Там, конечно, прекратили работу, когда начались беспорядки. А потом я спущу тебе напильник, и, если ты отойдёшь подальше в штольню, никто ничего не услышит.
— Эта мысль ниспослана небом, — сказал Шейн. — Если не считать того, чтобы я сам распилил свои наручники. Чем мне держать напильник? Мне бы не хотелось зубами, потому что тогда я так наточу их, что превращусь в тигра.
— Ну так я убегу после обеда и сам буду пилить. А сейчас лучше всего спустить тебя в шахту.
Они прокрались к шахте, прячась за сараями и кучами породы. Насколько они могли судить, все старатели до единого ушли на холм Спесимен. Одни лишь китайцы не вмешивались в это дело и продолжали вынимать столбы из заброшенных выработок и промывать золото вдоль берегов Яррови. Но оттуда, где они работали, участок Престона не был виден.
— Приходи поскорее, — сказал Шейн, — потому что я насквозь отсырею до наступления ночи.
Глава 5. Наручники
С помощью ворота Дик спустил Шейна в шахту, а сам отправился домой. Миссис Престон стояла на пороге, но она смотрела в направлении холма, где происходило сборище, и не услышала шагов Дика; ему пришлось сделать круг, чтобы зайти на шахту, и теперь он подошёл к дому с противоположной стороны.
— Ты невредим! — вырвалось у неё, когда сын её окликнул. — Мы так беспокоились. Отец ушёл в лощину Спесимен.
— Я могу и сам за собою присмотреть, — сказал Дик. — Мы с Шейном пошли туда только узнать, что там происходит.
Мать недоверчиво взглянула на него, и Дик увидел, что она плакала.
— Я бы не хотела, чтоб ты говорил мне неправду, Дик, — сказала она.
Дику стало не по себе, хотя, в сущности, он сказал правду. Ему захотелось рассказать матери обо всём, что произошло, но, когда он уже раскрыл рот, оказалось, что говорить ему не о чем; а между тем можно было рассказать так много, — если б только у него нашлись нужные слова.
Он не знал, правы ли были старатели, что подожгли гостиницу, но ему казалось, что поджог сам по себе не имел большого значения. Имело значение то, что говорили ораторы; но когда Дик пытался припомнить, что именно они говорили, на память приходило только слово «Свобода», строгое, загорелое, подвижное лицо Лейлора и страстный, напряжённый энтузиазм толпы, её глубокая решимость сделать жизнь свободной и справедливой.