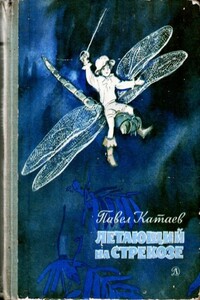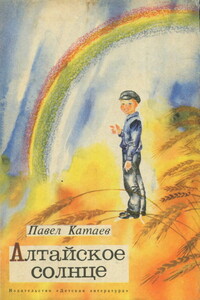Доктор велел мадеру пить... | страница 11
Само собой разумеется, еще не добравшись до конца, я уже прекрасно осознал свою чудовищную ошибку, заключающуюся не в том, что плохо разбирался в топографии города, а в том, что посмел вступить в спор со знающим человеком, вместо того, чтобы просто напросто усвоить правильное, а неправильное выкинуть из своей пустой головы.
Ах, как было бы здорово уметь поступать именно так!
Впрочем, честно говоря, никакого особого раскаяния я тогда не испытал. Так, легкая неловкость, да и то на какую-то секунду.
А вообще это было ощущение радости и праздника - шагать пасмурным осенним почти уже зимним деньком по безлюдной улице южного приморского города, поеживаясь от озноба, и слушая рассказы отца о том, как он по этой же улице плелся на уроки в свою Пятую гимназию.
Не всегда плелся.
Иногда с радостью и нетерпением бежал, почти летел.
Например, когда в "Одесском листке" первый раз в жизни было опубликовано его стихотворение.
Боюсь ошибиться, но кажется мой отец, гимназист Валя Катаев, газетную страницу со своим стихотворением прислонил к стеклянной двери класса, чтобы это произведение в коридоре мог прочитать любой желающий.
Вообще-то, гимназистам было запрещено печататься в газетах, но какое это имело значение!
Где же гимназия?
Она должна быть где-то здесь, рядом.
Да вот же она!
Мы вошли в полутемный просторный вестибюль, оттуда по мраморной лестнице поднялись на второй этаж и оказались в длинном широком коридоре: с одной стороны - окна, с другой - двери в классные комнаты.
На стенах, кажется, висели какие-то учебные плакаты, диаграммы.
Это красивое здание Одесской пятой гимназии давно уже занимает сельскохозяйственный техникум, и там уже ничего не осталось от гимназии, кроме, латаных - перелатанных спортивных матов и старинных снарядов в сумрачном гимнастическом зале.
Нам никто не встретился, словно бы это здание покинуто навсегда, и уже никогда никого здесь не будет, и некому задать вопрос, и не у кого получить ответ.
- Никого, - только и проговорил отец, когда мы вышли из гулкого вестибюля на безлюдную Пироговскую улицу и продолжили свой путь к Отраде.
Меня не оставляло какое-то очень странное, сильное чувство - то ли недоумения, то ли разочарования, и я долго не мог понять, в чем же дело. А дело заключалось в том, что мне, как "в терем тот высокий", не было ходу в тот навсегда исчезнувший мир, который для отца был вполне достижим и реален.