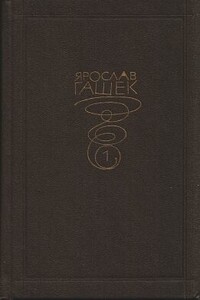Нравственный облик Пушкина | страница 24
Идея кроткой жалости, милости и прощения проникает массу произведений нашего поэта. Можно сказать, что это одна из основных нот его творческой мысли. Уже его юношескому воображению, — когда в нем еще кипел избыток жизненной энергии и любви к борьбе, — в заманчивой нравственной красе рисуется картина победителей, которые весело и грозно бились, делили дани и дары и с побежденными садились за дружелюбные пиры (1817 г.). Ему привлекателен Петр, ласкающий "славных пленников" своих и подымающий заздравный кубок за своих учителей (1828 г.). Но особенно дорог ему и понятен великий монарх, когда он с подданным мирится, — виноватому вину отпуская, веселится, — "и прощенье торжествует, как победу над врагом" (1835 г.).
Пушкин глубоко понимал громадное значение шагов к примирению с оскорбленною и страждущею душою и благотворное влияние великодушного и широкого прощения. Он испытал на себе, как под "таинственным щитом святого прощенья" умолкают "бурные чувства, кипящие в сердце — и ненависть, и грезы мести бледной"… Вот почему "лукавый льстец" способен накликать беду, стремясь ограничивать идущую с высоты трона милость, — вот почему пушкинский патриарх в "Борисе Годунове" благословляет всевышнего, поселившего в душе великого государя "дух милости и кроткого терпенья", — вот почему великий поэт наш всю жизнь свою "участьем отвечал застенчивой мольбе", и имеет гордое право на любовь народа уже за то, что воспевал своим чудным, непревзойденным стихом — милосердие, считая его призванием царя, а своей задачею считая "милость к падшим призывать"… [89]
В этой его особенности могут увидеть противоречие с воспеванием "славы бранной". Но представление о нем, как о певце этой мрачной славы, неверно, так же как и многие другие о нем представления. Никогда поклонником войны, как средства для добычи славы, он не был. Его разум и человечность восставали против лишенных внутреннего содержания понятий, столь дорого иногда обходящихся людям. Почти все песни его, посвященные войне, относятся к началу двадцатых годов, когда кругом все еще было полно "священной памятью двенадцатого года" и обаянием только что выдержанной борьбы за народную независимость, за положение, добытое вековыми усилиями и жертвами, давшее русскому народу испытать "высокий жребий". Написанное позже было вызвано впечатлениями начавшегося восстания греков против турецкого ига и последовавшей затем борьбы, захватившей сердца народов и правительств. И в обоих случаях дело шло не о добывании бранной славы, а о жизненных условиях существования двух народов — о родине и о "стране героев и богов".