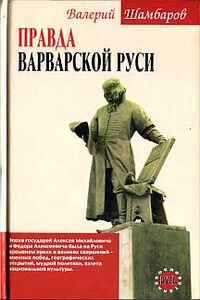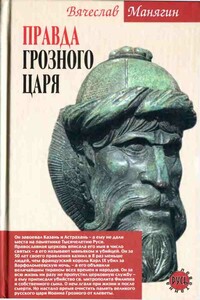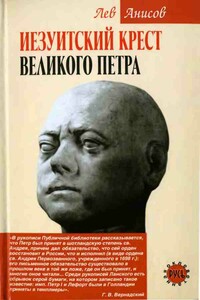Травля русских историков | страница 48
Поскольку следствие настаивало, что в своих предыдущих показаниях С. Ф. Платонов уже якобы признал, что вел борьбу с существующим советским порядком, ученый вынужден был пояснить, что он отнюдь не имел в виду политическую борьбу. «Единство настроения и работа в ученых кружках — это единственные элементы борьбы мне в этом деле известные, — заявил он. — Ни в чем другом борьба моя против советской власти не выражалась. Только в период «чистки» Академии (1929) я решительно боролся против внедрения в Академию наук на службу лиц, выдвигаемых общественностью, но не соответствующих делу ни знаниями, ни личными свойствами. Других форм борьбы за собой не ведаю»>{160}.
Однако уже на допросе от 12 августа С. Ф. Платонов неожиданно «сломался» и согласился признать, что в конце 1927 г. у него и у его друзей-единомышленников (Е. В. Тарле, Н. П. Лихачева, С. В. Рождественского, А. И. Андреева, Н. В. Измайлова) возникла мысль о необходимости придания их встречам «характера организованности». Состоялось несколько совещаний, на которых присутствовал специально приезжавший для этого из Москвы академик М. М. Богословский. В результате весной 1928 г. вопрос этот якобы был решен положительно, и организация, получившая название «Всенародный Союз за возрождение свободной России», была создана>{161}.
Ничего нового своими признательными показаниями С. Ф. Платонов следователям не сообщил, поскольку все это уже было «известно» им из показаний других подследственных, и в частности Е. В. Тарле>{162}. Тем не менее, вымученные у С. Ф. Платонова показания были большим успехом следствия, т. к. без недвусмысленных признаний руководителя «контрреволюционной организации» в самом факте ее существования передавать дело в суд и идти с ним на открытый процесс (а именно таков был первоначальный замысел) было, конечно же, нельзя.
Затронутые в показаниях С. Ф. Платонова сюжеты являлись своеобразной подготовкой к основному признанию ученого, сделанному им 19 сентября 1930 г. и посвященному тому главному, что от него, собственно, и требовало следствие, — «раскрытию» структуры и личного состава «контрреволюционной организации».
К сожалению, до нас не дошли вопросы следователей к С. Ф. Платонову, без чего не так рельефно выступает то огромное давление, которое оказывалось на него в процессе следствия, и то неимоверное интеллектуальное и моральное напряжение, потребовавшееся от него в отстаивании избранной им линии поведения или, быть может, правильнее сказать, своей защиты, ибо защитить С. Ф. Платонова в создавшейся ситуации мог только он сам.