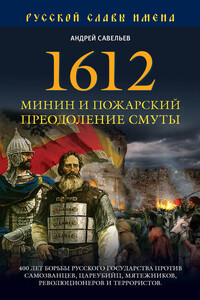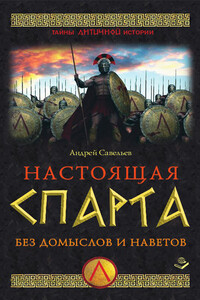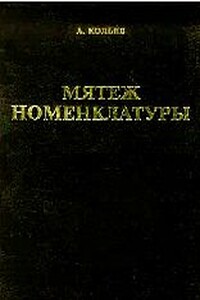Чеченский капкан | страница 58
Тем временем Главная военная прокуратура вела 11 уголовных дел о «прокручивании» денег Министерства обороны в коммерческих структурах, и это, скорее всего, была лишь вершина айсберга. Можно только догадываться о размерах такого рода «прокрутки» помимо армейских структур. Ведь денег в “демократической” России не хватало буквально ни на одну социальную программу!
Армия медленно и мучительно умирала, сохраняя верность присяге. Но последний предел отчаяния грозил мощным взрывом недовольства. Военные могли выйти из-под контроля правительства и не остановиться ни перед чем, окончательно убедившись в том, что того Отечества, которое они готовы защищать, больше нет. О близости такого конца говорили опросы, показавшие среди военных почти единодушное недовольство заботой государства об армии — 97 %.
Вероятность взрыва массового протеста и даже бунта в армии нарастала с каждым днем. Поступали сообщения о стихийных акциях, в которых пока участвовали в основном жены военнослужащих, которые перекрывали взлетные полосы и автострады, чтобы как-то обратить внимание на свое бедственное положение.
Но даже если бы текущие проблемы были решены, если бы армия была накормлена, если бы были выплачены долги по зарплате и хотя бы вдвое увеличены бюджетные ассигнования Министерству обороны, какую армию мы увидели бы в Чеченской войне или подобном конфликте? Как можно быстро восстановить ВПК и военную науку, оснастить Вооруженные Силы новейшей техникой, обучить отвыкшие от военного дела кадры, ясно и четко сформулировать военную доктрину?
Военные эксперты считают, что для того чтобы Вооруженные Силы были в состоянии выполнять стратегические задачи, их укомплектованность личным составом не должна опускаться ниже 70 процентов. По состоянию на 1 сентября 1995 года российские Вооруженные силы в среднем были укомплектованы на 64 процента (РВ, 09.12.95). Катастрофа уже состоялась, но не вызывала в обществе адекватной реакции. Даже войска, проводившие в Чечне боевые операции были укомплектованы от 30 % до 80 % штатной численности (“Новая газета”, № 37, 1996).
У армии осталось всего лишь 30 процентов современного вооружения. Если сегодняшнее положение сохранится, через 4–5 лет наша армия может не приниматься в расчет ведущими военными державами. Это будет означать фактическую утрату политической независимости и возможность самых интенсивных локальных конфликтов по всей территории России.
В 1913 году Россия выпустила 270 боевых самолетов, в 80-х годах СССР выпускал до 500 боевых самолетов в год, сейчас — меньше десятка (один самолет МиГ-29 в варианте истребителя ПВО стоит 20 миллионов долларов). Мы не имеем самолетов, аналогичных американским «Стелс» (освоены лишь отдельные элементы этой технологии), нам нечего противопоставить вертикально взлетающим штурмовику «Харриер» и транспортнику «Оспри», лишь незначительная часть российских летательных аппаратов снабжена системой дозаправки в воздухе. Между тем, свернута программа создания так называемых самолетов пятого поколения, отстает двигателестроение, производство радио-электронного оборудования и ракетно-бомбового вооружения (“Правда”, 5.12.95). Чтобы худо-бедно поддержать обороноспособность страны, предстоит выйти хотя бы на уровень производства 25–30 боевых самолетов в год, включая самолеты типа СУ-27 и многоцелевого фронтового истребителя. Пока же соотношение между ВВС вероятного противника и российской авиацией на западе количественно-качественным показателям составляет примерно 4:1 на западе, 2,5:1 на юге и востоке.