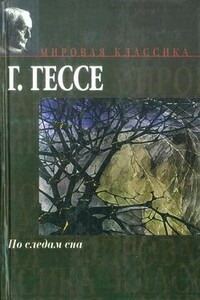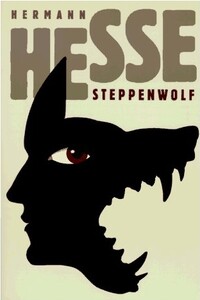Листки памяти | страница 30
Таких мгновений пробуждения или прозрения, как я теперь вспоминаю, немного наберется и в моей жизни, и почти все они потом растворялись в потемках памяти, засыпались пылью времен. Однако некоторые из них, пришедшиеся на юные годы, оказались ярче других. Разумеется, когда подобные предостережения посылались мне позже, я был умнее, опытнее, более способен на глубокомысленные или связно выраженные умозаключения, но само переживание, само биение пульса в эти моменты пробуждения в юности было сильнее и внезапнее, больше потрясало душу и сердце. И если вдруг теперь к человеку восьмидесяти лет подступит архангел и заговорит с ним, то престарелое сердце забьется с не меньшим смущением и блаженством, чем оно билось когда-то в груди юноши, впервые поджидавшего вечерком у калитки какую-нибудь Берту или Элизу.
То душевное событие, о котором я теперь вспоминаю, длилось не минуты даже – секунды. Но в секунды пробуждения или прозрения видится многое, и, когда вспоминаешь или пишешь о них, тратишь времени – как и на описание сна – намного больше, чем длилось само событие.
Случилось это в отчем доме в Кальве, в рождественский вечер, в празднично убранной «красивой комнате». На высокой елке горели свечи, а мы только что допели вторую песню. Миг самый торжественный уже миновал. Евангелие отчитали, то есть это отец, встав с Евангелием в руках перед елкой, выпрямившись во весь рост, наполовину прочел, а наполовину продекламировал наизусть строфы из жизнеописания Иисуса: «В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего…»
То была сердцевина нашего праздника, его сокровенная суть: торжественно звучал взволнованный голос отца, мы замерли вокруг елки, зачарованно поглядывая в угол комнаты, где на полукруглом столе посреди бутафорских скал и болот был воздвигнут град Вифлеем; нас переполняло радостно-нетерпеливое ожидание скорой раздачи подарков, но притом что-то и омрачало настроение, как во время всякого праздника, когда сознание такого противоречия между нашим миром и царством Божьим, между радостью земной и небесной немного все портит, но и как-то возвышает и облагораживает душу. Правда, на Рождество Господа нашего Иисуса противоречие это не было таким сильным, как на Пасху, тут радость была не только дозволена, но вроде как и вменялась в обязанность; все же в ней престранным образом смешивалось слишком уж разное: и что в вифлеемском хлеву родился Иисус, и что на елке горят свечки и пахнет пряниками и марципанами, выпеченными в виде звезд, и что сердце так нетерпеливо прыгает, желая поскорее узнать, в самом ли деле на столе лежит то заветное, чего ждешь не одну неделю. Что поделать, все это тоже относится к празднику – робкое смущение с едва уловимым привкусом не совсем чистой совести, так же как свечи и песни. Когда в доме праздновался чей-нибудь день рождения, то торжества всегда начинались с песни, в которой содержался вопрос-сомнение: