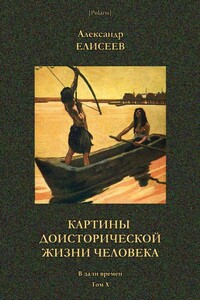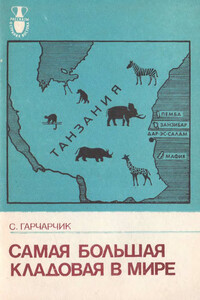Мусульманские паломники | страница 15
Ни одной пятницы не пропускалъ Абдъ-Алла, чтобы не сказать проповѣди, чающему отъ него поученія народу. Какимъ являлся этотъ бывалый старикъ, искушенный жизнью и благочестивыми подвигами хаджи, когда произносилъ съ высоты каѳедръ свою пламенную рѣчь; какимъ огнемъ тогда блистали его черныѳ глаза изъ-подъ сѣдыхъ длинныхъ бровей, какою силою и фанатизмомъ дышало каждое слово вдохновенной проповѣди того, кто Бога ради и пророка въ себѣ убилъ и воина, и сластолюбца, убилъ свои помыслы, свое собственное я. Въ каждый муллетъ — день, посвященный воспоминаніямъ о пророкѣ — старый шейхъ говорилъ также свои вдохновенныя рѣчи, и тогда, по словамъ Юзы, во всемъ громадномъ Каирѣ никто не говорилъ лучше Абдъ-Аллы. «Самъ пророкъ (да будетъ благословенно имя его!) влагалъ силу и огонь въ уста сѣдовласаго старца на поученіе правовѣрныхъ, самъ пророкъ въ иныя минуты говорилъ словами стараго шейха, и народъ въ трепетѣ внималъ пламенной рѣчи.
Только на праздникѣ курбамъ-байрамѣ не бываетъ въ Каирѣ вдохновенный проповѣдникъ-хаджа. Онъ молится тогда у гроба пророка, и тамъ у самаго подножья таинственной Каабы или за горѣ жертвоприношеній Араратѣ слышится его вдохновенная, горячая, какъ огонь рѣчь. Букчіевъ слышалъ эту проповѣдь стараго шейха и, удивляясь силѣ его краснорѣчія и огня, сравнивалъ ее съ трубою архангела Израфіила, который будетъ трубить при всеобщемъ воскресеніи. Большой (курбамъ) байрамъ — величайшій изъ мусульманскихъ праздниковъ, когда коранъ открылся людямъ и, низойдя на землю, сталъ свѣточемъ правовѣрнаго человѣчества — лучшій день въ году для стараго хаджи. Онъ молится тогда не столько за себя у гроба Магометова, сколько за свою обширную паству; всю ночь онъ лежитъ тогда ницъ передъ святынею и ждетъ, когда тѣнь великаго пророка пройдетъ передъ нимъ и коснется его головы… Тѣ минуты — райское блаженство для Абдъ-Аллы; тогда онъ предвкушаетъ и небо, и рай, и все, что уготовано въ горнихъ высяхъ для истиннаго правовѣрнаго. Весь постный мѣсяцъ рамазанъ, — предшествующій байраму, строго постится суровый къ самому себѣ Абдъ-Алла. Съ ранняго утра, какъ только утренняя заря позволитъ различить черную нитку отъ бѣлой, и до наступленія ночи не только ничего не ѣстъ и не пьетъ старый хаджа, но даже не куритъ, не вдыхаетъ благовоній. Даже легкій ароматъ аравійской розы, питающій обоняніе, по убѣжденію шейха, несетъ съ собою невидимый грѣхъ. Ни болѣзнь, ни путешествіе не отклоняютъ его отъ этихъ священныхъ обязанностей, хотя коранъ, снисходя къ слабости человѣчества, и дозволяетъ въ этихъ случаяхъ смягченіе поста. Много разъ рамазанъ заставалъ Абдъ-Аллу въ пустынѣ, и онъ, сгорая отъ нестерпимой жажды, падалъ отъ изнеможенія, не позволялъ себѣ до наступленія ночи не только-что ни капли воды, но даже глотнуть свою собственную слюну. И даже ночью, когда законъ разрѣшаетъ мусульманину и пить, и ѣсть, и веселиться, когда въ городахъ Египта происходятъ ночныя оргіи, когда красивыя раузіатъ (публичныя танцовщицы) и альмеи пляшутъ сладострастные танцы, когда пиршество и „фантазія“ (всякое увеселеніе) правовѣрныхъ достигаетъ nec plus ultra страстности, Абдъ-Алла читаетъ только молитвы и перебираетъ свои освященныя суббахъ (четки), поддерживая свое изможденное строгимъ постомъ тѣло одною ключевою водою, хлѣбомъ, плодами и трубкою душистаго наргилэ.