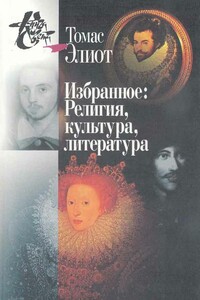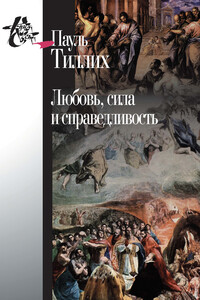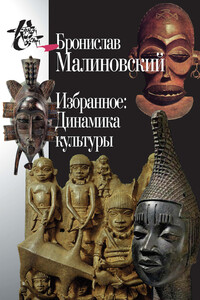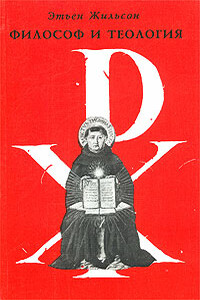Избранное: Христианская философия | страница 11
Однако, чтобы правильно понять этот акт, не нужно приписывать первенства ни воле, ни разуму, ни творению: в Боге воля, разум и творческая суть одно, и не только в том смысле, что они не являются тремя отдельными атрибутами и как бы тремя действительно отдельными вещами, но в том смысле, что между ними нет даже различения рассудка. Одним словом, в Боге нет ничего, оправдывающего подобное различение (каким бы относительным его ни пытались сделать) между могуществом, разумом и волей.
Что касается нового теологического возражения Мерсенна относительно того, что если Бог создал вечные истины, он создал также добро и зло, и, следовательно, Он мог бы, если бы захотел, осудить всех людей без различия на вечные времена, Декарт не должен отвечать на него, потому что оно является чисто теологическим. Дело не в том, что он признает доводы вольнодумцев, отталкивающихся от невозможности избежать наказания, если бы Бог пожелал нас осудить; их доводы являются, напротив, легковесными и смешными; однако, опираясь на аргумент, который он, вне всякого сомнения, позаимствовал у св. Фомы, Декарт отвечает, что желание основать истины веры, данные нам в откровении и потому достоверно известные из сверхъестественного источника, на доводах разума, может лишь повредить этим истинам, ибо такие доводы не более чем вероятны и не могут эти истины доказать[37].
В рассмотренных текстах содержится все учение Декарта о божественной свободе, и он ничего впоследствии к нему не добавил. В самом деле, мы находим в этих трех письмах к Мерсенну категорическое утверждение творения Богом вечных истин и аргументы, на которые опирается это утверждение. Мы видим, с другой стороны, насколько Декарт озабочен тем, чтобы придать строгое выражение своим мыслям по данному вопросу, и какое значение он ему придает, потому что среди метафизических вопросов, которые он собирается затронуть в своей физике, данному отводится самое заметное место. Однако трактат «Мир» не появился из-за опасений, которые вызвало у Декарта осуждение Галилея, и некотороелзремя он воздерживался от публикации своего мнения. В 1637 г. в «Рассуждении о методе» он хранит молчание. Да и в 1641 г. в «Размышлениях» Декарт тем более не затрагивает эту тему; только в силу случайных обстоятельств, чтобы ответить на критику, связанную с другим вопросом, он использует возможность, предоставляемую «Ответами на возражения», чтобы публично развить свою мысль.