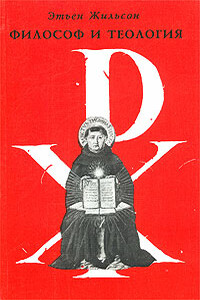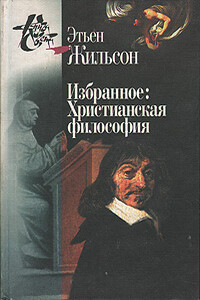Бытие и сущность | страница 40
Мы не видим, каким образом Аристотель мог бы избежать этого заключения. Но все его критики обращали внимание на те затруднения, с которыми оно сталкивается в собственном учении Аристотеля. Каждое сущее здесь обладает собственной формой, в силу которой оно существует как особая и самодостаточная онтологическая единица. С другой стороны, форма всякого индивидуального предмета есть то, что выражается в определении. Дефиниция вещи непосредственно относится к ее форме, которая одна и та же у всех единичных предметов одного вида. «То, что есть человек» остается неизменным и тождественным во всех людях, причем до такой степени, что не допускает никаких вариаций (даже вариаций степени) ни между разными человеческими существами, ни внутри одного и того же человека. Сам Аристотель прямо говорит об этом в знаменитом пассаже из «Категорий»: «Если вот эта сущность есть человек, то не будет человеком в большей и в меньшей мере ни сам он по отношению к себе, ни один по отношению к другому. Ведь один человек не в большей мере человек, чем другой, не так, как одно белое в большей и в меньшей степени бело, чем другое, и не так, как одно красивое называется более красивым или менее красивым, чем другое… Сущность (substance)… никак не называется сущностью в большей или в меньшей мере. Ведь и человек не называется в настоящее время в большей мере человеком, чем прежде. И точно так же — ничто другое из того, что есть сущность. Таким образом, сущность не допускает большей и меньшей степени»[798]. Сказано предельно ясно. Причем нельзя возразить, будто Аристотель говорит здесь просто как логик; ибо не существует двух разных миров: одного — для аритотелевской логики, другого — для его метафизики. Для Аристотеля, как и для Платона, «суть бытия каждой вещи (το τί ην είναι) означает то, что эта вещь есть сама по себе (καθ' αυτό)»[799]. Именно поэтому в каждом индивидальном сущем эта суть бытия, чтойность, или «то, что эта вещь есть», первично и прямо принадлежит сущности (го τί ην είναι… υπάρξει πρίοτως… και απλώς τη ουσία)[800]. Таким образом, «очевидно, что определение и суть бытия вещи (το τί ην είναι) в первичном и прямом смысле относятся к сущностям»[801]. В таком понимании сущее оказывается в первую очередь сущностью, которая определяется сутью бытия вещи и выражается в дефиниции. Такой вывод заставляет нас видеть в Аристотеле метафизика, хотя и весьма отличного от Платона, однако менее свободного от платоновской онтологии, чем принято считать. Вернее будет сказать, что Аристотель не сумел найти полного метафизического обоснования тому острому ощущению конкретного, индивидуального, которое столь явно отличает его от Платона. Он был убежден, что только индивидуальное поистине заслуживает имени «сущего»; но все его поиски того, что именно делает единичную вещь подлинно сущей, привели его к полаганию сущности, или формы, в качестве последнего основания бытия «того, что есть». Таким образом, аристотелевская онтология обусловлена двумя противоположными тенденциями: первая, совершенно спонтанная, побуждает его помещать реальное в конкретные индивидуальные предметы; вторая, унаследованная от Платона, — к тому, чтобы поместить его в интеллигибельную неизменность единой сущности, которая всегда остается самотождественной, несмотря на множественность единичных вещей. Было совершенно справедливо замечено, что