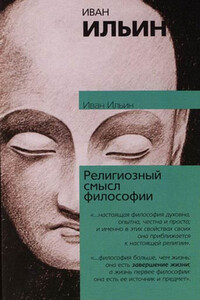Византийский культурный тип и православная духовность | страница 9
И под конец - несколько соображений более общего характера.
Православная мистика Логоса, весьма далекая от пантеизма и безличности, не позволяет, однако, свести тайны Вочеловечения к какой-либо перспективе, которая была бы лишь эмоциональной и психологической. Католическая классификация событий Вочеловечения в связи с практикой вычитывания молитв Розария на «радостные», «скорбные» и «славные» - mysteria gaudiosa, dolorosa,gloriosa,- не будучи сама по себе неприемлемой для православной ментальности, представляется несколько упрощенной. Разумеется, и православный не может не рассматривать Рождество как mysterium gaudiosum; но уже то, что Дитя изначально предназначено быть Жертвой на Голгофе, прогоняет настроение идиллии. Во всем «радостном» уже присутствует «скорбное»; но еще важнее для православного восприятия полнота мистического присутствия «славного» в самой глубине «скорбного». На Западе христианское искусство вступает на стезю, приводящую к разработке предельного эмоционального контраста между скорбью Страстной Пятницы и триумфом Пасхи: в качестве примеров можно назвать позднесредневековые скульптуры, которые принято было называть Crucifixi dolorosi («Скорбные распятия»), и особенно противопоставление ужасов Распятия и славы Воскресения в живописи гениального Матиаса Грюневальда. Совершенно иначе трактуются те же темы в православном сакральном искусстве. Изображения Распятия у византийских и древнерусских иконописцев весьма далеки от какого-либо натурализма или экспрессионизма; контуры распростертых рук Распятого дают почти ощущение полета и предвосхищают блаженную невесомость воскресшего Тела. Такие образы Голгофы дают перечувствовать весь парадокс мистической перспективы, в которой Страстная Пятница и Пасха переживаемы как абсолютно неразделимые грани одной и той же реальности. Крест Христа и есть Его победа. Парадокс этот был в сжатой формуле выражен св. Иоанном Златоустом: «Я называю Его Царем, ибо я вижу Его распятым»