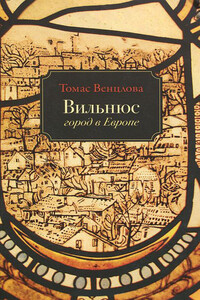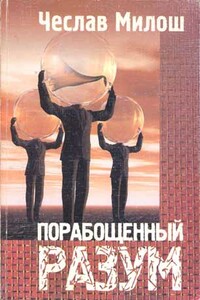Диалог о Восточной Европе. Вильнюс как форма духовной жизни | страница 15
Всё гетто (а также Немецкая улица, сразу переименованная в Музейную) было жутким мертвым пространством, наверняка похожим на Варшаву первых послевоенных лет. Стены старой синагоги еще стояли, но власти их немедленно снесли. Разрушали также и другие предметы, не вполне отвечающие новому порядку. Как-то утром мы увидели, что исчезли Три Креста>14, ночью их взорвали.
Три фигуры святых на фронтоне Кафедрального собора сначала отремонтировали, потом сбросили; печать разъяснила, что их не было в первоначальном проекте Стуоки-Гуцевича>15 (это, кстати говоря, правда, но в проекте был крест, который сбросили заодно). Поговаривали о какой-то будущей магистрали, которая соединит вокзал с Антоколем; как раз на пути этой магистрали оказывалась Остра Брама>16, а также два костела, доминиканский и Св. Екатерины. Говорили еще о проекте истинно советского небоскреба в Лукишках, на месте Св. Иакова (такой небоскреб успели построить в Риге). После смерти Сталина об этих проектах как-то забыли. Но весь город окружили серые типовые дома, в сравнении с которыми царская гарнизонная архитектура казалась образцом вкуса; такие дома успешно испортили Антоколь, а кое-где начали проникать и в исторический центр — скажем, как раз на Музейную выставку.
Моя школа, бывшая иезуитская гимназия, стояла в конце этой улицы — как бы островов среди руин. Была она большая, очень мрачная, и я вынес из нее далеко не лучшие воспоминания. Разные кризисы, свойственные отроческим годам, совпали с тем, о чем я уже говорил — с ощущением ненормальности, какой-то вывихнутости мира. В самый первый день после школы я заблудился в руинах; это мучительное беспомощное блуждание в поисках дома, которое продолжалось добрых четыре часа (некого было спросить, потому что людей я встречал немного, к тому же никто не говорил по-литовски), стало для меня чем-то вроде личного символа. Население Вильнюса в эту раннюю пору было очень невелико; вдобавок это была непостижимая магма. Евреи почти все погибли; поляки постепенно уезжали в Польшу (или в Сибирь), оставался, пожалуй, пролетариат да люмпены; литовцы либо принадлежали к новой советской элите, либо к недобитой интеллигенции, обычно сломленной или запуганной; появилось много русских и других иммигрантов — чиновников, оккупационных офицеров с красивыми дочками, но и простых людей, живущих нищенски или хуже того. Из «тутошнего» наречия, русского и осколков литовского, на глазах творился новый странный жаргон. Город был бандитским и опасным. Часто вспыхивали дикие драки, главным образом при сведении национальных счетов. А прежде всего каждый чувствовал тяжкую руку власти.