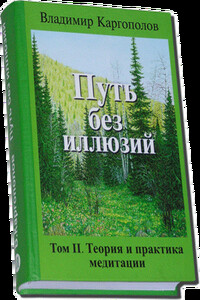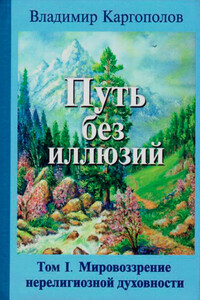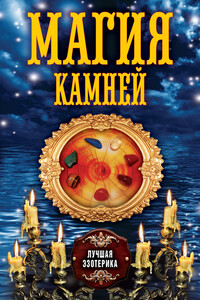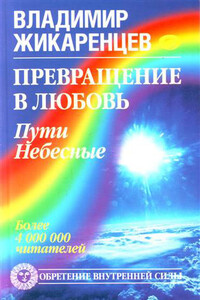Путь без иллюзий. Том 1. Мировозрение нерелигиозной духовности | страница 30
Традиционная восточная метафора сравнивает сознание человека с озером. Если стоит тихая безветренная погода — тогда зеркальная поверхность воды адекватно отражает окружающий мир, но если наступит ненастье, поднимутся волны и правильное отражение будет уже невозможным. Чань-буддизм утверждает: «Пробуждение интуитивной мудрости-праджни возможно только тогда, когда сознание очищено».
2. Практическая эффективность теории.
Согласно великому Гёте, наивысшим критерием живого духа истины является продуктивность. «Истинное, — сказано у Гёте, — это то, что плодотворно». Если некая теория так и остаётся теорией, и не даёт никаких практических результатов, — тогда, с точки зрения гётевского критерия плодотворности, она не является истинной и заслуживает полного забвения. Сразу же возникает крамольная мысль: а что будет с теорией познания Иммануила Канта, изложенной в его знаменитой «Критике чистого разума», если посмотреть на неё с этой точки зрения? Лично я убеждён, что гётевский критерий «плодотворности» в полной мере должен относиться и к теории познания. Истинная, в этом смысле, гносеология, непременно должна давать весьма полезные практические приложения для обучения и творчества. А если таковых не наблюдается — тогда грош цена всей этой теории, независимо от того, сколь глубокомысленно и наукообразно она себя подаёт. Итак, теория должна быть практически эффективной. Если, к примеру, теоретик утверждает возможность perpetuum mobile (вечного двигателя), то пусть он его построит. Психологу Б.Г.Ананьеву, основателю ленинградской психологической школы, принадлежат следующие мудрые слова: «Ценность абстракции определяется возможностью её конкретизации». Перефразировав Ананьева, можно сказать, что ценность абстракции также определяется возможностью её практической реализации. Конечно же, это не следует истолковывать в духе прагматического редукционизма. Напротив, я глубоко убеждён, что, хотя истинное познание всегда имеет многочисленные практические приложения (знаменитое: «Нет ничего практичнее хорошей теории»), тем не менее, для познающего субъекта оно вполне самодостаточно, для него оно является величайшей субъективной ценностью независимо от какой-либо практической выгоды. Однако, как я уже упоминал в первой главе, всегда имеется противоречие между сукцессивностью изложения и симультанностью постижения. Невозможно обо всём говорить сразу — когда делаешь приседания, невозможно одновременно делать отжимания.