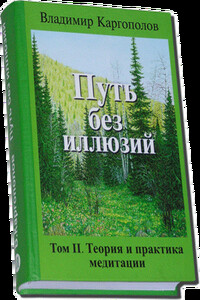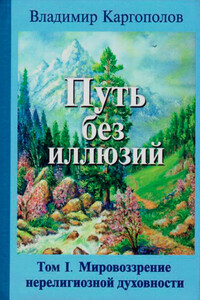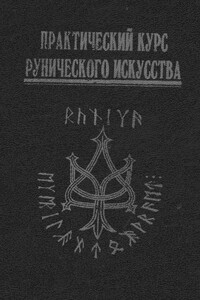Путь без иллюзий. Том 1. Мировозрение нерелигиозной духовности | страница 27
В своё время мне довелось работать в психиатрической больнице в качестве практического психолога. Вспоминаю одного из наших пациентов — молодого человека, больного шизофренией. Это был интеллектуально очень одарённый человек: успешно учился одновременно в двух высших учебных заведениях, замечательно играл в шахматы (мне довелось сыграть с ним партию и я был разбит в пух и прах). Так вот, этот молодой человек часами(!) сидел в туалете на стульчаке и медсёстрам приходилось выгонять его оттуда швабрами. На физиологическом уровне никаких особых проблем с дефекацией у него не было. Проблемы были на уровне психологическом. Оказывается, ему непременно нужно было всё «выкакать до конца», а поскольку довольно трудно иметь уверенность в полном и абсолютном завершении данного процесса, бедолага обрёк себя на безвылазное многочасовое сидение в туалете.
Таков и наш ум, дай только ему волю. Чем более он логичен, тем более шизофреничен, ему тоже надо «всё выкакать до конца».
Можно сделать то обобщение, что во всех случаях психической патологии, связанных с поражением информационного (в отличие от энергетического) аспекта личности, — налицо неспособность примирить и интегрировать внутриличностные, внутрипсихические противоречия. К этому относится и шизофренический схизис и невротический конфликт. Если духовная зрелость — это Тай-цзи, как полная интеграция противоположностей, то на другом полюсе — их принципиальная несовместимость и противостояние.
Итак, мы пришли к выводу, что объяснительная сила теории вовсе не является самодовлеющим критерием её истинности. Вполне возможно очень замечательное, логически безупречное, непротиворечивое и в высшей степени убедительное изложение ошибочной и неадекватной теории, тогда как несомненная истина, основанная на глубоком и ясном прозрении в природу реальности, может быть изложена весьма невразумительно, сбивчиво и несвязно, с множеством противоречий и логических нестыковок. В первом случае мы имеем замечательное развитие вербального интеллекта и дискурсивного мышления при прискорбной недостаточности интуиции. В другом случае — наоборот, прекрасное интуитивное видение при неспособности полноценно и качественно оформить его в словах. Конечно же, мы не должны забывать о принципиальной невозможности вербализации высшего интуитивного познания. Я хорошо осознаю, что здесь, при желании можно указать на логическое противоречие в моих словах: с одной стороны, я говорю о невыразимости интуитивно познанного, с другой — об адекватной вербализации. На самом деле противоречия нет, поскольку существуют сферы опыта, относительно которых возможно как интуитивное познание, так и рациональное объяснение (сфера грубоматериального), однако есть и другие сферы, при продвижении в которые вербализация интуитивного постижения всё более и более затрудняется и, наконец, делается невозможной. В этой книге такого рода кажущихся логических нестыковок будет много, и мне бы хотелось, чтобы читатель проявил большую открытость и меньшую критичность.