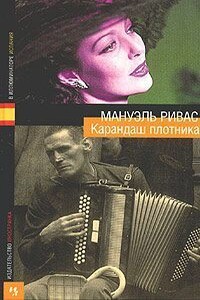Ангельские хроники | страница 26
И из Захарии:
«Ликуй от радости, дщерь Сиона, торжествуй, дщерь Иерусалима: се, Царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъяремной».
И из Михея:
«…Посему Он оставит их до времени, доколе не родит имеющая родить… (Тут голос Симеона дрогнул.)…И станет Он и будет пасти в силе господней, в величии имени Господа Бога Своего, и они будут жить безопасно, ибо тогда Он будет великим до краев земли. И будет Он – мир».
На это все вежливо закивали, стали обсуждать эзотерический смысл этих текстов, ибо некоторые из александрийских евреев уже начинали мечтать о гебраистском гностицизме, где каждая буква алфавита была бы наделена космическим смыслом. Симеон, сохраняя светскость тона, не выказывал никакого раздражения, даже шутил насчет пророков, у которых просветленность души во много раз превосходила чистоту тела, придерживаясь при этом традиционной точки зрения: кровь Давидова скоро – возможно, завтра – произведет на свет нового Помазанника Божьего, который станет краеугольным камнем творения, и речь здесь, по всей видимости, идет именно о человеке, рожденном женщиной, к тому же царской крови. Он вступит в Иерусалим верхом на осле, по обычаю иудейских царей, всегда с недоверием относившихся к зубастым лошадям, на которых разъезжали завоеватели всех мастей.
Амфоры были полны кипрского вина, и рабы сбились с ног, наполняя чаши. Была уже глубокая ночь, когда Симеон велел подать лодку и отправился в обратный путь через пролив, освещенный красным оком маяка. Он задремал.
Однако как только ноги его коснулись суши, сонливость его как рукой сняло. Может быть, он и лег бы, но храп Исаха отбил у него всякую охоту ко сну, и он снова покинул свои покои. Он подумал было сходить к маяку и полюбоваться им вблизи, но, очутившись на молу, о камни которого с ласковым шорохом разбивались волны, оказался во власти ночи.
Он замер.
Ночь была удивительно светла, хотя и безлунна. Бархатная лазурь неба с неисчислимым множеством высыпавших на ней звезд создавали впечатление, что ночь эта – лишь иная форма дня, более таинственная и более прекрасная. Синева ее, словно наполненная звоном тысяч светильников с золотыми и серебряными подвесками, была подернута там и сям белыми пеленами, развернутыми от одного края неба до другого. Млечный Путь сливался с блуждающими туманами, с поднимающимися от волн испарениями, и фантастические световые вихри уносились в непостижимые молочно-белые расселины, отверстые во тьму.