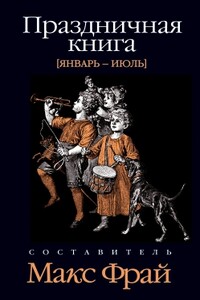Роман о любви, а еще об идиотах и утопленницах | страница 67
— Теперь понятно?! — спросил русалковед.
Андрей пожал плечами. Не хотелось ему огорчать доверчивого человека, но правду внутри было не удержать.
— Не очень-то убедительно, — он мог эту историю придумать запросто…
— Придумать?! — перебил Яков Афанасьевич. Он поднялся со стула, и Андрей отшатнулся, так грозен и страшен был сейчас русалковед. — Да знаешь ли ты, что Юрий Михайлович до такой степени боялся воды, что даже ванну не принимал и через мост никогда не переходил? Всю жизнь на острове прожил.
— На каком острове? На необитаемом?
— На Васильевском, конечно. И ни шагу оттуда. Только однажды… — Яков Афанасьевич замолчал, уселся на прежнее место, состроив какое-то скорбное выражение лица. — Только однажды, неизвестно откуда, появилась у него какая-то девица, молодая, симпатичная такая, жила у него недели две, наверное, выпивала с ним, да однажды, подпоив, завела на набережную… и с тех пор пропал Юрий Михайлович, как в воду канул. Вот.
— А девица?
— Девицы тоже с тех самых пор не видел никто. Ладно, пойду чайник сниму.
— Так что, девица эта русалкой была, что ли?
Яков Афанасьевич остановился у двери.
— А ты как думаешь?! Но одно я знаю точно: городу грозит беда. Если мы глубинными минами… Пойми, мне очень важно, чтобы ты поверил. Это самое главное. Обо мне, правда, всякую чушь рассказывают, будто я сам с ними дружу и все такое, — он вновь хохотнул. — Но это же чушь! Чушь собачья!
И вышел.
Андрей находился в некотором недоумении. Рассказ пьяного утопленника его не убедил. Эдакую историю под рюмочку любой алкаш сплетет, еще более правдоподобную, особенно допившийся до горячки… Но что-то настораживало Андрея. То ли это странное желание Якова Афанасьевича уверить его в правдивости истории, то ли что-то другое. Необъяснимая тревога, чувство, что не городу, а ему, Андрею, грозит сейчас опасность, вдруг заворочалось где-то в глубине души, еще не осознанное, но уже ощутимое.
«Мотать нужно отсюда, — подумал он. — Что-то этот русалковед недоговаривает или еще хуже, что-то у него в уме застряло». Возможно, ничего у русалковеда в уме не застревало, возможно, это наивный рассказ алкаша навеял это тоскливое чувство страха.
Вошел Яков Афанасьевич с подносом, на котором стояли чашки, печенье в вазочке, поставил поднос на стол.
— Ну, за русалок, — поднял свою чашку и, внимательно глядя ему в глаза, поднес к чашке Андрея. — Они чокнулись. — Чай негорячий, — почему-то сказал русалковед, хохотнув.