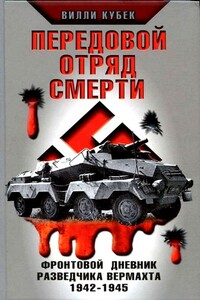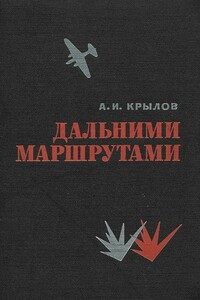Смертник Восточного фронта. 1945. Агония III Рейха | страница 11
Не все читатели воспримут представленные Борном события так же, как и он сам. Как бы то ни было, большинство согласится с тем, что эмоциональный диапазон произведения, изменяющийся и неподдельный, простирается от ярости до отчаяния, от страха до проблесков надежды, от отвращения до не совсем обычного юмора, лишь прибавляющего повествованию достоверности, делая чтение доступным и приятным. Чуть ироничный юмор нередко воспринимается как сардонический. Вполне возможно, что угрюмые шутки в первую очередь адресованы автором близким и родным — Борн практически наверняка ограничивал читательскую аудиторию своей семьей, пожалуй, даже своим братом, которому он и отправил свои воспоминания в длинном письме. Такого рода записи предполагают определенную прямоту и искренность, основывающуюся на доверительных отношениях между отправителем и получателем, которые позволяют без тени смущения рассуждать о глубоко личном.
Как становится ясно из его воспоминаний, отдельные моменты в поведении Борна заслуживают особого внимания. Один из них — постоянные попытки Борна уклониться от властных полномочий, навязываемых ему властями. Мы можем допустить, что это объясняется его личной скромностью, однако, с другой стороны, подобное нежелание брать на себя любую ответственность могло быть продиктовано опасением возможных упреков и даже обвинений в будущем. То, что вопреки всему эти власти непрерывно пытались «озадачить» его, отчасти можно объяснить деятельной натурой Борна, его несомненным опытом руководства и — что совершенно негоже сбрасывать со счетов — его внушительным телосложением: в нем было шесть футов и четыре дюйма роста (свыше 1 м 80 см). Подобные люди подсознательно внушают уважение. Например, в фольксштурме, куда Борн попал в свои сорок с небольшим, он представлял собой своего рода прослойку между шестидесятилетними с одной стороны, и подростками из гитлерюгенда — с другой.
Вдобавок Борн постоянно упоминает поразительное везение, благодаря которому он избегал многих неприятностей, и все же не раз повторяет, что на самом деле его спасение — результат незаурядной ловкости и стойкости духа, а не пресловутого везение. Он относит свои поступки на счет личного мужества, а не воздает хвалу судьбе. Такие трактовки событий создают странное несоответствие, акцент на везении свидетельствует о скромности и смирении, каковым он и был обязан жизнью. Как он пишет: «Они утверждали, что, дескать, понятия не имели, как быть со мной, что, мол, не могут найти ни единого повода для придирок». С другой стороны, упоминание о смелости, в частности, его утверждение о том, что никто и никогда не задирался с ним, а те, кто пытался, «получали по заслугам», свидетельствует о том, что автор переизбытком скромности явно не страдал. Странное, хотя и объяснимое соседство, ибо наличие этих специфических черт характера как раз и объясняет тот факт, что самому Борну было очень нелегко понять, как же все-таки он сумел просуществовать и, в конце концов, выжить среди волков военного времени. Если же взять в целом все, что нам оставил Борн, можно предположить, что он спасся, как и многие другие в подобных обстоятельствах, не благодаря исключительному упорству и уж точно не благодаря победе над волками войны, а скорее просто в силу выдержки, умения выжить и пережить их, выйти на свободу и оказаться — хоть и далеко не в безмятежном — мире.