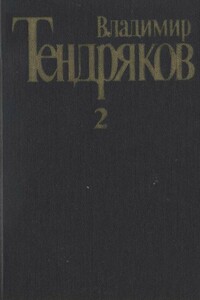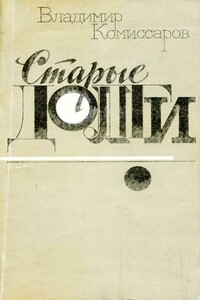Кончина | страница 30
Довели… Так-то, Иван, и тебя изъездят…
А утром — пасха, печные трубы источали запах сдобных куличей. Церковь недавно закрыли, против церковных праздников шла напористая агитация, но праздновали все — верующие и неверующие. Кто по русской привычке откажет себе лишний раз выпить да повеселиться?
Село праздновало пасху, бабы, выскакивающие на крылечки, полыхали яркими поневами.
Иван с женой разносил пойло свиньям.
Вечером горела лампа с надтреснутым стеклом, освещала начищенный рюмчатый самовар, блюдо с горшечного цвета крашеными яйцами. За черным окном моросил мелкий дождь, никак не пасхальный. В сырой темени пиликали гармошки, доносился резаный крик пьяной бабы и вызверевшие от самогона голоса.
Они вдвоем сидели за столом. Маруся, старательно причесанная, в чистой кофте, а лицо желтое, усталое. Им даже не к кому пойти в гости. Принято ходить к родне, а родни-то в селе у них не осталось — отец и мать Ивана померли еще до коммуны, Матвей Студенкин освободил от родни Марусю.
Пиликают за окном гармошки, чужое веселье идет стороной, они вдвоем с глазу на глаз, никто не вспомнит, никому не нужны. А завтра снова придется отбиваться от озверевших с голодухи свиней, и завтра, и послезавтра, и на третий день, без конца — в тупике жизнь, в тупике мысли, давящее молчание за столом.
— Иван… — У Маруси в тени под бровями нехороший, блуждающий блеск, голос придушенный: — Иван, сходил бы ты… Разыскал деда Бляху, что ли…
Он внутренне содрогнулся от ее голоса:
— Зачем?
— Все гость у нас будет.
Не было презренней человека на селе, чем старый, без роду, без племени, выживший из ума бобыль Бляха. И занятие у него — помогает чистить нужники. Косноязычен, грязен, умом убог, робостью пришиблен. И такого-то за стол, вот уж гость от великого отчаяния.
— Марусь, ты в своем уме?
— А что тут плохого?
— Выходит, нам вдвоем плохо?
— Сиротливо, Ванечка, сам чуешь. Теплей станет, когда одно сиротство к другому прислонится… Не перечь, сходи за стариком, Христом-богом молю.
Они привыкли друг друга слушаться. Она просит, отказать не смел — поднялся в смятении…
Окна изб были по-праздничному освещены, в них качались тени. Но яркие окна не разгоняли сырой тьмы, напротив — от них она казалась еще гуще, жирней. И шел укрытый темнотой праздник — перекликались гармошки, чавкали сапоги по грязи, пробивалась сочная матерщина, и все еще резано кричала пьяная баба.
Вспомнилась вчерашняя встреча с лошадью — разбухшие бабки, влажный тоскливый взгляд, тихое, выворачивающее душу ржание. Не будущее ли его это? А может, сегодня уже так выглядит? Маруська за гостем послала, за Бляхой… Сломалась!