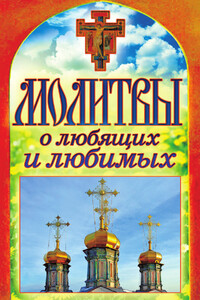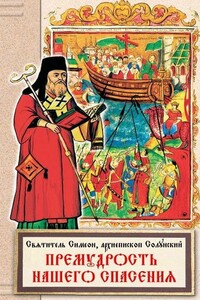Духовная и культурная традиции в России в их конфликтном взаимодействии | страница 14
Вопросиззала: Почему?
Хоружий: А попросту потому, что каждый органон единственен. И, соответственно, он ведет к своему единственному телосу. Выходя из этого органона, вы просто выходите из этой практики. Все, вы уже не там, вы уже в другом месте. Теперь задачу ориентации вам надо ставить по-другому. Для начала, если вы констатируете ситуацию, как ситуацию смешения, вы констатируете, что вы уже не на пути. Что будет потом, что при этом возможно и невозможно, это вопросы следующие. Для начала вы покидаете путь.
Вопросиззала: А возможен индивидуалистический путь к инобытию, путь вне традиции?
Хоружий: Разумеется, нет. Я с этого начал. Вы можете только двигаться в «топике бессознательного», как я это называю. Это очень похоже. Например, те паттерны человеческого существования, которые воссоздает Лакан. Они очень похожи на духовные практики. У него, как мы помним, циклические стратегии вокруг некоей пустоты. Пустота достаточна похожа на инобытие. Но пустота психоаналитических стратегий — это не та пустота, о которой говорят восточные практики. А в христианстве инобытие как пустота абсолютно не осмысливается.
Вопросиззала: Вы верующий человек?
Хоружий: Да.
Малышева: У меня, как мне кажется, простой вопрос, но он может быть важен для слушателей. Хотелось бы вернуться к последней фразе вашей лекции, к тезису о том, что в эмиграции удалось достичь гармонического слияния. Не могли бы вы назвать несколько примеров того, в каких формах это происходило.
Хоружий: Да, конечно. В данном случае я имею в виду достаточно определенные практические вещи, культурные явления, которые происходили в эмиграции. Там, действительно, произошел переход русской мысли в свой следующий этап, отличный от пресловутой философии «серебряного» века, которая всячески изучается и прославляется.
Это явление уже гораздо менее известно потому, что этот переход означал и выход из философского способа, философской речи. Он был достигнут уже не в философском дискурсе, а в богословском. Произошло то, что я называю «модуляцией дискурса». Это развитие известно уже непосредственно как развитие богословской мысли, хотя оно и имело и философские стороны. Оно было связана прежде всего с именами отца Георгия Флоровского, отца Иоанна Мейендорфа, Владимира Николаевича Лосского.
Мы сегодня пытаемся их издавать, доносить до людей их наследие. Это, действительно, был следующий этап, и, как я пытаюсь разъяснить, выстраивая контекст и процесс, в культуре эмиграции встреча и развитие вот этих вот двух этапов прослеживаются достаточно выпукло. Был даже один исторический эпизод, когда эти два этапа как бы столкнулись между собой, и переход к чему-то следующему обозначился совершенно явственно.