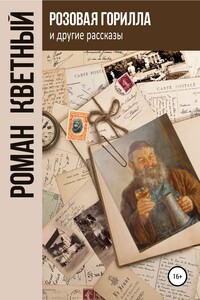Детство. Золотые плоды | страница 109
Ах, значит, ничего этого не было? Вы ничего не подумали? «Золотые плоды»?.. Неплохо!» Вот все, что вы сказали. Больше ничего. Вот что вы мне бросили, вот чем я должна довольствоваться, вот что вы бросаете голодным, чтобы от них избавиться, вы, вы, такой богач, владелец стольких сокровищ. И вот все, что мне досталось: вы считаете, что «Золотые плоды» — это неплохо. Что же мне еще надо? Не станете же вы читать нам лекции, объяснять... Вот что вы мне выдали — мелкую денежку... как ее ни верти, ни разглядывай — непонятно, откуда она... Я таких не видела... Наверно, вы привезли эти монетки из дальних стран, но я там никогда не бывала... А тут они не в ходу, тут, где я живу, — и вы это знаете. Что же прикажете с ними делать? Берите их себе. Вот, возвращаю вам. Мне они ни к чему.
...Знакомые образы вновь обретенной родины... Они излучают нежность, от них веет покоем. К ним устремляется путник, возвращаясь из диких краев, узник, выпущенный на волю... вот они, все тут, на месте, приколоты к стене над письменным столом. Вот Верлен в пелерине, со стаканом абсента сидит на клеенчатом диванчике в старом кафе, вот Рембо с легким галстуком, развевающимся на ветру, Андре Жид — узкие щелки индейских глаз из-под широкополой мексиканской шляпы... И эта...
— Ага, вы ее прикололи... я тоже... не расстаюсь, всегда со мной... Восхитительно, правда? Я считаю — вы со мной согласны? — что Курбэ никогда ничего прекраснее не создавал... — Его пальцы, словно лаская, чертят в воздухе. — Особенно эта линия... Вся эта часть... Поразительно, вы не находите? Вообще для меня Курбэ, честно говоря...
Длинная узкая голова наклоняется. Что-то мелькает в лице... словно едва уловимая ирония... Во взгляде — удивление... Что с вами? Что это на вас нашло? Неужто здесь, среди своих, еще надо как-то выражать... объяснять... Разве это не ясно само собой?
Верно, как это он забыл? Ведь они тут у себя дома, в родной стране, в стране цивилизованной, где уважают истинные ценности, воздают по заслугам, где царит справедливость, торжествует правое дело. Но как объяснить тому, кто никогда не сталкивался с произволом, с обскурантизмом, с варварством? Откуда ему понять, как он может даже предположить — и как посметь признаться ему в этом?
Так блудный сын, еще пахнущий сырыми углами, пропитанный запахами нищеты, застиранного белья, дешевой помады, липучих духов, алкоголя, наркотиков, блевотины, испытывает мучительный стыд, когда, подняв голову над тонкой, чуть благоухающей духами рукой, он видит серебряные локоны матери, ее все еще стройную шею, стыдливо охваченную бархоткой, и встречает доверчивый взгляд ее глаз.