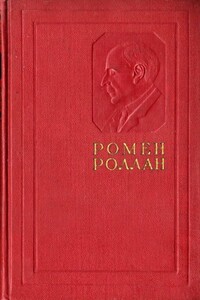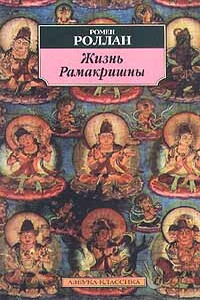Кола Брюньон | страница 35
— В добрый час! Тебе, что же, досталось все? Я отвечал:
— Почти что так: но я воды не боюсь, лишь бы не требовалось ее пить.
— Входи, — сказала она, — Ной, спасшийся от потопа, Ной-виноградарь.
Я вошел, увидел Глоди в короткой юбочке, примостившуюся под прилавком.
— Здравствуй, маленькая булочница!
— Готова биться об заклад, — сказала Мартина, — что я знаю, почему ты так рано ушел сегодня из дому.
— Ты можешь не бояться проигрыша, тебе причину знать легко, ты сосала ее молоко.
— Так это мать?
— А то кто же?
— Какие трусы эти мужчины! Флоримон, который как раз входил, принял это на свой счет. Он напустил на себя оскорбленный вид. Я ему сказал:
— Это мне. Не обижайся, юноша!
— Хватит на обоих, — сказала она, — не будь таким жадным.
Тот изображал по-прежнему уязвленное достоинство. Это настоящий буржуа; он не допускает, чтобы над ним можно было посмеяться; и когда он видит нас вдвоем, меня с Мартиной, он настораживается, он с недоверчивым взглядом ждет, какие слова издаст наш смеющийся рот. Ах, бедные мы! Каких только козней нам не приписывают!
Я сказал с невинным видом:
— Ты шутишь, Мартина; я знаю, Флоримон в своем доме хозяин; он не даст себя оседлать, как я. К тому же и его Флоримонда тиха, смиренна, покорна, воли у нее нет, ни слова не скажет в ответ. Эта славная девушка вся в меня, который всегда был человеком робким, послушным и забитым!
— Да перестанешь ли ты издеваться над людьми! — воскликнула Мартина, стоя на коленях и наново протирая (уж я тру, тру, тру) с остервенелой радостью оконные стекла.
И за этой работой (она работала, а я смотрел) мы перекидывались славными и сочными словечками. В глубине лавки, которую Мартина наполняла своим движением, своей речью, своей сильной жизнью, сидел, забившись в угол, Флоримон, недовольный и хмурый, обиженной фигурой. В нашем обществе ему всегда не по себе; он пугается смелых шуток, ядреных галльских прибауток; они задевают его достоинство; ему непонятно, что можно смеяться от здоровья. Человек он маленький, бледненький, худенький и угрюмый; вечно на все жалуется; ему кажется, что все плохо, должно быть, потому, что он ничего, кроме себя, не видит. Обмотав полотенцем свою цыплячью шею, он сидел с беспокойным лицом и ворочал глазами то вправо, то влево; наконец, он сказал:
— Здесь дует со всех сторон, как на башне. Все окна отворены.
Мартина, не оборачиваясь, ответила:
— Вот тоже! А мне так душно.
Некоторое время Флоримон терпел на своем стуле… (Сквозняк, по правде говоря, стоял такой, что хоть куда…) И вылетел пулей. Моя молодка, не вставая с колен, подняла голову и сказала, добродушно и весело подтрунивая: