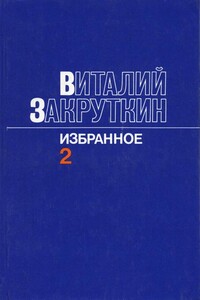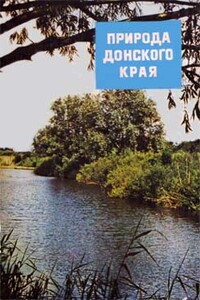От земли к земле | страница 8
Мы с братом Ростиславом были покорены поэзией Есенина, и оба, соревнуясь друг с другом, стали писать стихи, откровенно подражая любимому поэту. Стихов было написано много. Мы писали о полях, о перелесках, оврагах, о наших конях и коровах, о том, как дед собирает травы, как хорошо снежной зимой сидеть у горящей печки. О многом писали мы с братом в те далекие годы. Писали о дорогах, о грозах, о неразделенной любви, и незримый Сергей Есенин витал над нами. Мне жаль, что позже, разорив дом, где я жил, гитлеровцы вместе с книгами уничтожили и тетради написанных мной стихов. Зато стихи Ростислава, который отважно сражался на фронтах Отечественной войны, а летом 1955 года утонул в Калининграде, случайно дошли до меня через десятки лет. Я очень любил брата и, когда увидел ломкие, пожелтевшие страницы его тетрадей, с грустью вспомнил наше деревенское детство, отрочество, дружную нашу юность. Мне хочется привести здесь стихи Ростислава с одной целью: показать, что мы с ним были покорены Есениным и, босоногие жители глухой деревушки, вовсю старались писать так, чтобы походить на него, нашего властителя дум:
Такими же стихами наполнялись и мои тетради. Я вспомнил об этом только потому, что, отыскивая источники своего бескорыстного стремления к слову, тревожащего душу желания рассказать людям о силе и красоте земли, о зеленом шуме лесов, о ласковости кобыл, коров, овец, голубей, о солнце и звездах, обо всем, что там, в запрятанной меж двух холмов деревушке, окружало нас, было горячо и беззаветно любимо нами, хотел признаться в том, что мы, безъязыкие, обратились к поэтическому учителю, наиболее близкому нам. Вместе с землей его поэзии учила нас познавать все доброе в мире…
Свои поэтические тетради мы с братом никому не показывали, ревниво то охраняя написанные нами строки от любопытных взоров младших Ангелины и Евгения, — что они могли понять в наших высоких порывах? Куда мы только не прятали заветные тетради в клеенчатых обложках! Зарывали их в пшеницу на чердаке, укрывали соломой, настеленной на русской печи, таскали с собой в поле и в ночное. При этом особенно побаивались мы отца, к тому времени остывшего к поэзии. Побаивались и потому, что в стихах наших, соответственно стилю «Москвы кабацкой», встречались и «притоны», и «суки», и «проститутки», и даже словечки похлеще, которым нас настойчиво учили старшие деревенские парни.