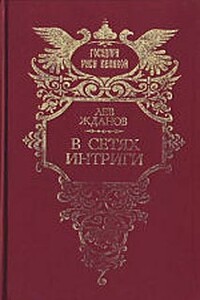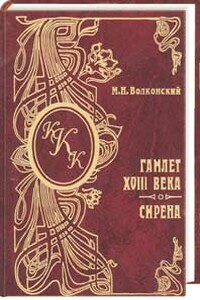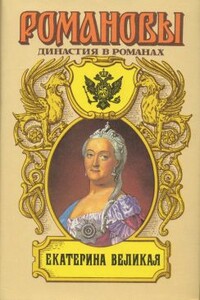Венчанные затворницы | страница 37
— Отче-господине! — обратился по порядку царь к митрополиту к первому. — Милостью Божьею и Пречистой Его Матери молитвами и помощью великих заступников христианских: Петра, Алексия, Ионы и Сергия, и всех русских чудотворцев, — положил я на них свое упование, а у тебя, у отца своего, поблагословяся, помыслил оженитися. Попервоначалу дума моя была подружию пояти в иностранных государствах, у круля какого-либо, али бо у цесаря. Но после ту думу поотложил я. Не хочу жены искати в чужих землях, царствах инославных, как после отца-матери своих мал я остался, возрос без призору родительского. Не приучен на многое. Вот приведу себе жену из чужой земли. И в норов не сходны станем с нею, в свычаях царских наших да обычаях. То промеж нас худое житие пойдет. Посему и поволил я! — особенно торжественно и внятно произнес Иван, видя, как все чутко слушают кругом. — В своем царстве-государстве мыслю, отцовским обычаем, жены поискати и поятию, по твому, отче-господине владычный, пастырскому благословению.
Сказал, умолк и сел. Все с легким говором опустились на места. Словно вдали по дну каменистому поток горный прокатился.
Теперь всем ясно, что царь не только твердо решил пожениться, но еще хочет у себя, на Руси, вернее на Москве, невесту поискать.
Люди, не знавшие ничего об Анне, так и занеслись мечтами: авось ихнего рода девицу залюбит Иван? А не то и происками да ловкостью не удастся ль провести как-нибудь свою невесту-родственницу в царицы Московские?
Другие слыхали, наверное даже знали о Захарьиной Анне, а все-таки надежды не теряли.
«Не больно красовита! Бледна, не дородна… Да и не родовита вовсе. Наша куды пригожее. И ростом и дородством взяла. И роды наши старые…»
Так думали иные.
И все готовы были искренне приветствовать решение юноши царя, хотя и не совсем по правилу он поступал: мало кому из главных бояр даже сказал о своем решении жениться.
Ну да юн, горяч. Поуймут его задор молодой заботы и дела царские. Уж верховные советники велемудрые о том постараются!
Первым, как и подобало, заговорил Макарий. Поднялся старик, у самого слезы радости на глазах.
— Царь-осударь великий, чадо ты мое духовное наилюбезное! Порадовал ныне еси меня, старика, молитвенника и слугу твоего извечного. Юн еще толико, а разумом преисполнен обильно, яко кладезь водою кристальною — жаждущим в отраду и упоение.
Как бы желая погасить недовольство в душах тех из первосоветников, кто осуждал самостоятельный шаг царя, да и с себя желая снять возможные нарекания, Макарий продолжал: