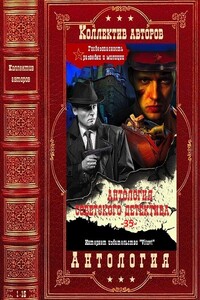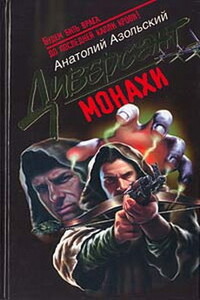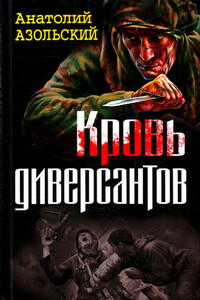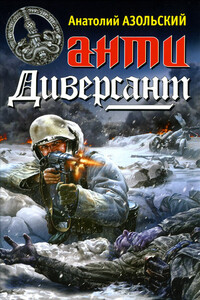Смерть Кирова | страница 44
Таково было недоверие Сталина к собственному карающему мечу, так до конца жизни и не изжитое. Догадывался, знал, что он уже пленник созданной социализмом системы, что ни на НКВД, ни на МГБ—МВД узду не наденешь, никакой контроль за ними невозможен, и единственное, что мог сделать — приказал все расстрельные списки пропускать через него. Однажды вслух и серьезно заявил, что желал бы после своей смерти видеть во главе правительства Вознесенского, а лидером партии — Кузнецова. Сказал — и ничуть не удивился, когда ему на стол положили материалы, изобличающие Вознесенского и Кузнецова в измене.
“Кировский поток”, то есть изгоняемое из Ленинграда население, начал опустошать город еще при Кирове, но только после гибели его забурлил. У Сталина к тому же всегда маячил в воображении суд над И.В. Джугашвили, все бытовое и политическое поведение его — психологическая подготовка к неизбежной расплате за позорные ошибки, за все, он представлял себя осуждаемым — и уничтожал поэтому свидетелей как обвинения, так и защиты — по мере убывания первых. Прощенные им Запорожец и Медведь были в 37-м расстреляны, Артузов — тогда же, из всего следственного аппарата кировского времени уцелели ничтожные единицы, Шейнин, к примеру, помогавший Агранову изобличать оппозицию, Райхман, юркнувший за спины коллег. Прочесали всю страну к началу 1938 года, на Ягоду (его не сразу взяли, потому что надеялись: он отловит всех причастных к авантюре) надели намордник, бывший нарком коротал остаток жизни в камере. Он, как и все вовлеченные в лжезаговор, превосходно понимал: признание в том, что он сотворил, ведет к немедленному расстрелу, зато согласие с липовыми обвинениями дарует некую вероятность сохранения жизни.
Всю страну перетрясли. Вспомнили и о журналисте Гарри, который о многом мог догадаться, не спасла его известность и два ордена Красного знамени; наградили и третьим, когда сидел в тюрьме, о чем ему сообщил сам Фриновский, заместитель Ежова, “по-дружески” пригласив в свой кабинет, там же, на Лубянке.
Известных Кирову ленинградских большевиков либо расстреляли, либо рассовали по гибельным лагерям.
Всех — но не всех.
В живых оставался последний, тот, кто был поумнее чекистских душегубов, консультант, если не разработчик не по его вине сорванной операции, а таковым мог быть, пожалуй, только он, Абрам Слуцкий, руководитель ИНО, шеф внешней разведки, которому в середине 30-х на откуп отдали большую часть Европы, где он создал самую эффективную для того времени агентурную сеть. По какому-то недоразумению, так считали многие, продолжал жить и служить тот, который, обматерив в разговоре “троцкистских собак”, тут же всплакивал над несчастной судьбой их. Кто каждый прожитый день считал подарком судьбы. Бессчетно тративший деньги в кабаках Парижа и Берлина, Слуцкий и московские пьянки обставлял с западным шиком. Еще не закатилась звезда Ежова, казни в аппарате НКВД набирали мощь и размах. Комиссары Госбезопасности всех рангов послушно подписывали уничтожавшие их протоколы и признания, на партсобраниях с пеной у рта спорили, кто больше повинен в преступлениях, то есть кто чаще перекидывался словечками о погоде с только что арестованным соседом по лестничной площадке. А Слуцкого не трогали. Долгоживучесть его объясняют заботой НКВД о закордонной агентуре, она будто бы сдаст себя мировому империализму, когда узнает об аресте шефа. (Поскольку позднее этого она не сделала, то поневоле родилась мысль о двурушничестве, и, повинуясь еще одному взлету большевистской мысли, разведчиков звали в Москву и уничтожали.)