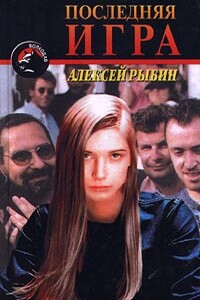Майк: Право на рок | страница 56
Довольно некрасиво писать лишь о них двоих, но, в самом деле, создается впечатление, что вся прелесть приматовской сессии - их заслуга. И все же, полагаю, что именно Файнштейн и Губерман спасли дело от окончательной лажи. А вместо Севы на стуле в молчании сидела одинокая виолончель, всем своим видом намекая, что хозяин где-то неподалеку. И все-таки, хочется поговорить о тех двоих. Борис работал энергетическим фонтаном, размахивая микрофонной стойкой на краю сцены. Садился, ложился и падал на пол. Кидался пивными бутылками, которые непрерывно опустошал, чего и вам желаю.
Борис Гребенщиков
Познакомились мы на квартире у Марка Зарха, уехавшего ныне давным-давно. У него как-то все лето происходила чудовищной силы тусовка - дневали, ночевали. И однажды Родион, который туда был вхож, привел с собой такого небольшого человека, который себя ничем не зарекомендовал, к тому же там были все до беспамятства пьяны, естественно, все было очень весело, ну, вот еще один человек пришел - раз Родион привел, значит хороший человек, к тому же Родион его именно так и представил. А у меня в тот вечер, насколько я себя помню, была общая идея о том, что если на мир смотреть с башенного крана, то все будет гораздо лучше и менее печально, поэтому я залезал на башенный кран, который стоял во дворе этого дома и смотрел на мир, а с Майком общался не очень. Больше башенным краном интересовался. И уже потом как-то оказалось, что Майк еще и что-то пишет. И как-то потом само собой выяснилось, что Майк очень хорошо ориентируется в рок-н-ролле, но это уже в последующие дни.
Сцена, которую я очень хорошо помню, это когда я пришел из армии в 77-м году, и мы с Майком были уже в довольно близких отношениях, и пошли, почему-то, в поле, где теперь стоит цирк «Шапито», рядом с его домом, и сели в этом поле, и я ему сыграл песни, которые я из армии привез - 4 штуки, теперь их уже никто не помнит: «Всадник между небом и землей» и какие-то еще. А он мне сыграл то, что он написал, и там, по-моему, была песня «Все мы живем в Зоопарке». И рассказ новый прочитал - был такой оптимальный случай, когда два человека, которые что-то делают, встречаются и обмениваются тем, что у них нового появилось. Это был огромный кайф - светило солнце, мы пили что-то такое легкое или не легкое - эта встреча мне запомнилась нестандартной, замечательной такой, интересной.
Впечатление, которое сохранялось всю жизнь, было точно подтверждено незадолго до его смерти - я помню его таким рок-н-ролльным петербургским юношей, и для меня он всегда был таким и никогда не был другим. И то, что он поседел и пополнел за последние несколько лет, абсолютно этого факта не меняло, и когда мы зашли к нему на день рождения, он отозвал меня на кухню и прочитал свои стихи, какие-то новые, сказал, что сегодня ночью написал. И стихи были точно такие же, как он писал тогда, в конце семидесятых, то есть, вообще ничего не изменилось. И в этом, по-моему, в этой его полной изолированности от мира, он весь. То есть, себя, юношу - рок-н-роллльщика, он загнал в такое измерение, в котором всю жизнь и прожил, и мир видел только внешнюю его сторону. А внутренней стороны он, по-моему, просто не понял. Майк - как бы солидный, звезда, очки и все такое, а ведь он был прямой противоположностью всему этому, ему как было лет пятнадцать или шестнадцать, так и осталось. Тогда он создал свой особый мир и стал в нем жить. И он всю жизнь слушал музыку, связанную с этим миром: старый рок-н-ролл, Болана, что-то еще… Он всю жизнь в этом и оставался. Насколько я помню, ничего нового он не принимал - «Дэд Кэн Дэнс» или «Кокто Твинз» - упаси, Господь! И поэтому он остался абсолютным романтиком. Просто то, что было внутри, вот эта сердцевина, она была видна только тем, кто из этого же мира и происходил, кто хорошо его знал. Мы с ним встречались, не могу сказать, чтобы очень уж часто в последний период времени, но я видел - он всегда стопроцентно оставался абсолютно верен себе.