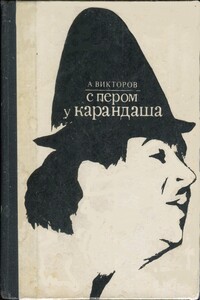Биография Ивана Александровича Гончарова | страница 3
До февраля 1844 Гончаров работал над повестью или романом «Старики», о содержании которого (близком «Старосветским помещикам» Н. В. Гоголя) известно лишь из писем к Гончарову еще одного участника майковского кружка, В. А. Солоницына. Он находил, что Гончаров «только по лености и неуместному сомнению в своих силах» не оканчивает романа, начатого «так блистательно». Однако ни похвалы близкого знакомого, ни «домашняя» слава в кругу Майковых не могли противостоять сомнениям Гончарова, его неверию в собственное литературное призвание. В конце 1830-начале 1840 гг., по словам писателя, «все свободное от службы время посвящалось литературе», он писал «для себя, в виде упражнений», ничего не печатая, и «кипами исписанной бумаги… топил потом печки». Постоянные сомнения, равно как и исключительно высокая требовательность к себе, останутся до конца дней характерной чертой творческой личности Гончарова.
В 1845 г. у Майковых Гончаров читает вслух первую часть «Обыкновенной истории» (роман задуман в 1844 и писался частями в 1845–1846 гг.), которая попадает сначала в руки М.А.Языкову, затем к Н.А.Некрасову, увидевшему в ней вещь незаурядную. Наконец «с ужасным волнением» Гончаров передает «Обыкновенную историю» на суд В.Г.Белинскому. Белинский, по словам И.И.Панаева, «был в восторге от нового таланта, выступившего так блистательно». В 1846 г. Гончаров лично знакомится с критиком и тогда же сближается с И.С.Тургеневым, П.В.Анненковым, В.П.Боткиным и др. По собственному признанию, он в те годы во многом разделял убеждения Белинского, «относительно, например, свободы крестьян, лучших мер к просвещению общества и народа», но «никогда не увлекался юношескими утопиями в социальном духе идеального равенства» и к власти «относился всегда так, как относится большинство русского общества…».
Публикация «Обыкновенной истории» («Современник». 1847. № 3–4; отд. изд. СПб., 1848) была воспринята большинством читателей и критиков как литературная сенсация и, по словам Белинского, «произвела в Питере фурор — успех неслыханный!». Признание таланта до тех пор неизвестного автора было всеобщим. Центральный конфликт — столкновение «романтика жизни» с «положительным» человеком и торжество трезвости и деловитости над идеализмом и мечтательностью — сделали роман исключительно актуальным. По словам Белинского, писателем был нанесен «страшный удар романтизму, мечтательности, сентиментальности, провинциализму!». Гончаров одним из первых обратился к проблеме назревшей смены социально-исторических форм жизни. В племяннике, как писал он позднее, выразилась «праздная, мечтательная и аффектационная сторона старых нравов», в дядюшке — «трезвое сознание необходимости дела, труда, знания». Жизненная позиция младшего Адуева выглядит подчеркнуто романтической, однако он выступает наследником целого комплекса отживших и отживающих укладов, от идиллических до средневеково-рыцарских. Жизнь пересматривает, снижает и пародирует его идеальные критерии и претензии. Однако не щадит она и старшего Адуева — преуспевающего петербургского чиновника и фабриканта, представителя «нового порядка», с его культом прозаически-прагматических ценностей. Обе «модели жизни», оба крайних и односторонних взгляда на жизнь Гончаров отвергает ради чаемой, но отсутствующей в современной действительности подлинно гармонической нормы. Почти через 10 лет после выхода «Обыкновенной истории» Л.Н.Толстой заметил: «Вот где учишься жить. Видишь различные взгляды на жизнь, на любовь, с которыми можешь ни с одним не согласиться, но зато свой собственный становится умнее и яснее».