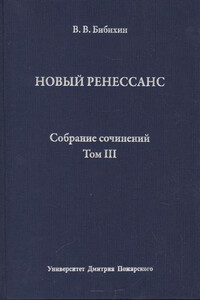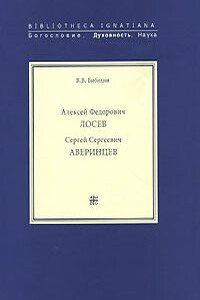Сергей Сергеевич Аверинцев | страница 65
9.6.1990. Аверинцев думает однозначно, что на Запад ехать хорошо.
5.7.1990. Аверинцев простуженный из Парижа, выступал в ЮНЕСКО и привез последний вестник РХД и «Курьер ЮНЕСКО» со своим интервью о гедонизме, в вестнике стихи о звезде и втором Съезде 12.12.1989.
7.7.1990. То, как Аверинцев вдруг сказал, что я говорю нужное ему, и то, что мы впервые говорили как равные и как друзья, почти впервые, не пустота. Он из Парижа, где говорят, что вместо февраля настала наконец зима, и он простудился. После официальной части ЮНЕСКО он спорил до хрипоты, доказывая западным, что, условно говоря, в Москве умеют считать не только до двух, но и до трех, ему не поверили и зачислили в антигорбачевисты. Вовсе нет, возражал он, я хочу ему успеха, жалко видеть его зависимость, податливость, аморфность. Уже из боли за человеческое существо хочешь
392
ему успеха, сказал я. Да, согласился Аверинцев. Он показал только что вышедший Вестник РХД, где его стихи о кремлевской звезде, и я указал ему на две-три слишком победительные строки. Другие совершенно пронзительные. Он не обиделся, наоборот; и посоветовался: ему присылают «Студенческий меридиан», и там в каждом номере обязательно, чего другого может и не быть, но раздел хуже чем порнографии, холодных советов по перверсной технике. И непонятность, как возразить, ведь журнал всё-таки ему любезно дарят, не жаловаться же на них другим, как-то соединилась у него с недоумением, почему люди без причин нерадостны [...] Аверинцев теперь что-то вроде специалиста по борьбе с техногедонизмом, в тех советах он и технику, и гедонизм как раз в чистом виде видит. — Тихая Наташа пришла из распределителя Академии наук на Ленинском проспекте, принесла «заказ». Я извинился перед ней, что мы не спохватились ее оттуда захватить. Отношения между ними грознеют вдруг, она кричит — когда он поворачивается со странной решительностью назад за галазолином, «ты знаешь ведь, я разбрасываю эти лекарства повсюду», — «Сережа, Сережа!»; и в его тоне тоже подготовленность к противостоянию. При ней он цитирует лучшее, ему кажется, эротическое стихотворение неизвестного мне немца: «Kein Ungesttim und kein Verzagen...» [...] — Я был как раз за технику, всякую, только ее мало; за Камасутру, которая развертывает всю технику, и духовную; скажем, правду о переносе влечения. Аверинцев сказал, что есть вещи, о которых надо забыть, чтобы говорить об этих, как в «Круге первом» человек из лагеря удивился, увидев, что на гражданке одежда имеет два номера, а не только один, и догадался, что чтобы помнить об этих двух номерах, надо о чем-то уже забыть. Блестяще сказано; это Аверинцев, гениальный. Но, сказал я, не всё лагерь, и вне лагеря тоже есть, вне монастыря и аскезы есть. Я понимал, что это всё еще не главное; но я и знал, что он чувствует, он такой. — Говорили о детках, они целиком предоставлены сами себе, только сами решают главные вещи, кого любить, кого нет, когда обижаться. Аверинцев, подумав: «Не спрашивают. Если бы я кого-нибудь спросил. Если бы мои детки хоть раз спросили». Наташа, улыбаясь: «Не спрашивают никогда. Всё всерьез, трагично, одноразово, только сами решают».