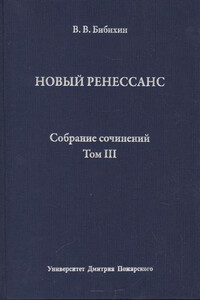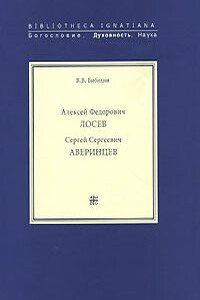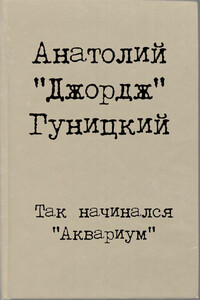Сергей Сергеевич Аверинцев | страница 55
379
прочел содержание сборника, мгновенно увидел последнюю статью о Войтыле, открыл мою статью, прочитал начало и похвалил меня за него, и всё меньше чем за минуту, пока я провожал из машины Ирину Ивановну Софроницкую, пять шагов. Так жадно читала Трауберг. — О Ренатином «Senso unico» он звонил всё-таки Енишерлову, редактору «Нашего наследия», о своем «двойственном отношении» к статье не говорил, только ее хвалил и рекомендовал. Гарантия это еще не гарантия: Енишерлов взял статью и непонятно что скажет. Но Аверинцев верен.
1989
5.1.1989. Аверинцев в ЦК. Горбачев: что, я не мог бы давить? Нас только этому и учили, но я думал, и понял, что это нехорошо; я каждую минуту готов умереть. В целом Аверинцев доволен.
12.1.1989. Уже после 11 вечера у Аверинцева. Все спят. Он со мной на кухне. Он расстроен рецензией Турбина на его «Между Евфратом и Босфором» в № 12 «Нового мира»; Турбин его собственно хвалит, но Турбин шут. И в конце сталинских лет, говорит Аверинцев, когда одни подличали, другие официально громыхали, еще можно было, не худшее занятие, тратить силы и жизнь на такое бодряческое шутовство, но уже очень скоро это стало неуместным. И самые первые вещи Гачева еще можно было читать (я тоже увлекался). Сейчас оба люди с приросшей маской, сказали мы хором. — Упреки старой дамы, автора письма в «Новом мире», Аверинцеву за двусмысленность и неясность на него совсем никак не подействовали, вопреки Ире; он позабавился только, что ему ставятся в образец Толстой и Победоносцев. Оба разрушители. В моем слове, говорил Аверинцев, целиком остается моя наклонность к двоящимся мыслям. Стоит мне сказать что-нибудь, что угодно, и сразу думаю о возражениях, упоминаю их, и как после этого требовать от меня, чтобы не создавалось впечатления, что я не могу решиться ни на что однозначное? Толстой. Я Толстого не люблю. Его нелюбовь к иконам непонятна; что ему вообще за дело до икон? — Но его последние рассказы, сказал я, «Записки сумасшедшего»; он мистик; как Лютер, который ведь замахнулся рукой не на папу, на всю религию: оправдание в акте веры; спасение во мне, в движении моего сердца; тут всё поставлено на человека, и сумасшедшая радость мистика, держащего в сердце ключ от истории, от мира, сметает и взвихривает всё. То же
380
Толстой; его трезвые трактаты месть миру за медлительность, за то, что не горит в мистическом экстазе. — Аверинцев слушал, и сказал, что вдруг, пожалуй, понял, почему Лютер женился. Не из concupis-centia, конечно; и не потому что постановив, что мирское состояние не хуже священного, он хотел показать пример: он женился потому что испугался. Но моей мысли о мистическом экстазе Аверинцев не хотел давать ходу; как ему сразу приходят в голову по всякому поводу разнообразные мысли, так он не может представить, чтобы они не могли явиться Лютеру, Толстому, и как к этим мыслям, сомнениям, опасениям, взвешиваниям можно было не прислушаться. Он трезвый. Есть то, что есть, мысль, рассудок, наблюдение, знание, и воображать сюда экстазы и опьянения дурной тон. Как он прав. Это пушкинское, трезвое (Рената и Ира говорили в машине, что у одного Пушкина совсем нет утопии и мечтательности). И я согласился с Аверинцевым: Лютер и Толстой нелюди, они боги, «смертные боги», по Гераклиту.