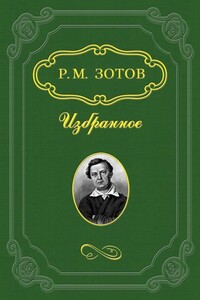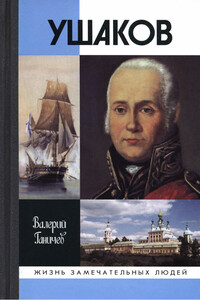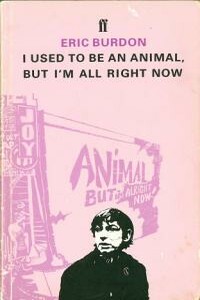Рассказы о походах 1812-го и 1813-го годов, прапорщика санктпетербургского ополчения | страница 16
Въезжая в город чрез наскоро починенный мост, мы с гордым самодовольствием вспомнили, что первое войско, ворвавшееся в стены Полоцка — было Ополчение (12-я дружина). У заставы опросили нас и дали провожатого на квартиру. С этой стороны города все было так мирно, так спокойно, а вдали, на другом конце, слышны были ежеминутные выстрелы.
Там на Двине наше же ополчение работало под неприятельскими ядрами и пулями. — Французы при отступлении сожгли разумеется мост, — и наши торопились теперь построить другой. Неприятельские батареи, поставленные у опушки леса на той стороне, очень неприятным образом мешали, правда, работе, — но наши солдатушки уж привыкли к этому аккомпанементу и только что поругивались, когда выстрелы слишком часто прерывали их занятие.
В доме какого-то Еврея назначена была наша госпиталь-квартира. Четырнадцать раненых Штаб- и Обер-офицеров поместились в одной комнате, имевшей одну кровать и несколько израненных стульев. Но мы были в Полоцке — и эта мысль услаждала всякое горе. — Здесь мы в первый раз после последней дневки в Невеле — пообедали. У нас был суп — и битая говядина. Какая роскошь! Какое наслаждение! — К нам пришел Адъютант нашего Полковника — и рассказал нам бездну новостей, которые еще более увеличили наше веселое расположение. — Витгенштейн получил в этот день пакет от ГОСУДАРЯ, с надписью: распечатать по взятии Полоцка! — а он уж был взят. Пакет этот был: Указ о пожаловании его в полные Генералы. — Мы тотчас же разумеется выпили за здоровье ново-пожалованного, веселость наша еще усилилась — и мы до ночи провели время в дружеских разговорах. — Ввечеру принесли нам сена, соломы и несколько грязных матрасов. Кровать была одна — и все разумеется уступали ее старшему. Это был наш Подполковник, 60-ти летний старик, который ранен был в ту минуту, как Баварцы прорвали на штыках наш фронт (я в 1-й главе описал этот случай). Но добрый ветеран не хотел этого преимущества и повалился на пол, на мягкую солому. Кровать же советовал всему обществу уступить — мне! Какое торжество для моего самолюбия! Напрасно я с видом скромности отговаривался, — все единогласно подтвердили решение Подполковника — и кровать отдана была мне, как наиболее покрытому ранами, — Никогда не засыпал я в таких приятных мечтах, с таким гордым удовольствием.
Зато следующее утро было самое неприятное для всех. — Это был день первой перевязки всех раненых. — Признаки этой перевязки решают судьбу раненого. — Если рана у него загноилась, — то он по всей вероятности вылечится, — если же в ране не будет материи, а окажется одно воспалительное состояние, то он может писать свое завещание. Мучения, которые я терпел при этой перевязке, превосходят всякое описание. Длинные и густые волосы, корпия и запекшаяся кровь, составили такую плотную массу, что Доктору невозможно было приступиться. Он велел меня выбрить. Цирюльник тотчас же приступил к этой работе — и все шло хорошо покуда он не добрался до ран, — но тут он необходимо должен был задевать бритвою за раны — и боль была нестерпимая; страдальческий пот выступал на лице крупными каплями. Как ни совестно было кричать при всех, — но я не выдерживал мученья и поминутно кричал и ругался. Наконец ужасная операция кончилась; Доктор промыл, осмотрел раны — и объявил мне, что они кажется не опасны. — Какое-то собственное чувство давно мне говорило то же, но, признаюсь, Докторское подтверждение чрезвычайно меня обрадовало. Я уже решительно стал считать себя в числе живых, — и тотчас же начал писать письма к матери и к знакомым, рассказывая им о моих подвигах с самою напыщенною скромностью.