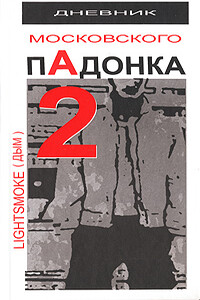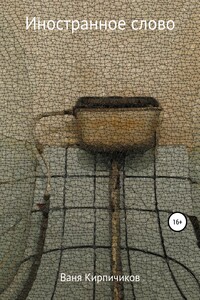Насилие.ру | страница 15
Аналогичная формула узаконивания насилия просматривается и в «фольклоре красноармейцев» периода гражданской войны начала XX века:
(запись была сделана на Украине).
Отечественная война (1941–1945 годов) также изображается в деревенском фольклоре как помеха нормальному осуществлению репродуктивных ролей:
Распроклятая Германия затеяла войну. Взяли милого в солдатики — оставили одну! Ой, девочки, война, война, зашумели ёлочки, Прилетели самолеты — улетели дролечки! Много лесу на угоре, много вересиночек. Из-за проклятого фашиста много сиротиночек.
Итак, традиция санкционирует лишь насилие, осуществляемое в интересах и по сигналу из прокреативной сферы, тем самым программируя сцепление этих двух сфер.
Феномен их сцепления в русской культурной традиции точно выразил А. Платонов: «В нашем народе понятие матери и воина родственны: воин несет службу матери, храня ее ребенка от гибели, и сам ребенок, вырастая сбереженным, превращается затем в воина». До сих пор, если рождается мальчик, матери говорят: «Ну, будет солдат!»
Уже на примере праздничных драк мы могли наблюдать разделение сфер насилия и воспроизводства. По обычаю в этих драках участвует неженатая молодежь: «Всё до армии, — объясняет житель с. Пинаевы Горки (в Новгородской обл.), сам бывший атаман деревенских компаний. — После армии — уже нет: уже думали о семейной жизни. Всерьёз с девушкой знакомимся. А женатые уже не дрались — уже дети». Так формулируется норма. Участие женатых мужчин в драках случалось, но воспринималось как факт исключительный, и это участие осуждалось и сдерживалось. «Женатые не дрались, — замечает рассказчик, — только поддерживали. Да хотел холостого парня ударить, а попал в женатого… Бабы плакали: две дочки остались…» Случаи убийства или увечья женатых мужчин десятилетиями хранились в памяти жителей, приобретая стереотипно-фольклорную форму и назидательно-осуждающий смысл. Мотивировка — «у них дети»: иными словами, заведя детей и беря на себя ответственность за них, человек устранялся из сферы насилия.