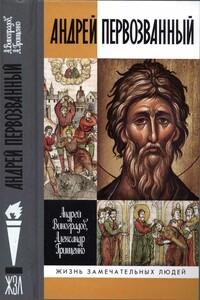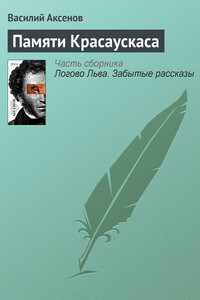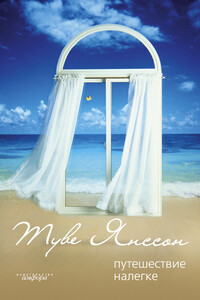Ребро барана | страница 8
Больше Гриша и не хотел ничего вспоминать о своей поездке в Самарканд, про Бухару – тем более. Там они попали в лапы некоего Тахира-акя, который твердо решил купить им пять чапанов, а потом, уже в Ташкенте, обнаружилось, что купил четыре – на их последние деньги. Нельзя было выезжать из Ташкента. Никуда. Сидеть на месте и переваривать жалкие ошметки детства, потому что история в этом месте кончилась, а та, что шла снаружи или даже внутри, но в каком-то параллельном городе, была чужая и страшная история, не Гришина и не Розы Францевны, а туристу Антуану было все равно, хотя, возможно, он и догадывался о чем-то важном и непонятном.
Кондукторы в трамваях разучились разговаривать по-русски, но почему-то казалось, что свежее поколение кондукторов все-таки заговорит с новой силой и особенной любовью. Город не менялся вовсе, разве что казался гораздо меньше, чем был раньше. Дальние родственники, не успевшие уехать в Россию, не старели. Надгробный камень деда был расколот надвое вандалами, хотя могила и не была бесхозной. Кладбище, огромное и шумящее листвой, казалось национальным парком – парком национальностей, где русские карты в шахматном порядке чередовались с еврейскими, а цыганские с корейскими. Нигде русских не было больше, чем на кладбищах. А тех, кто уехал, но был еще жив, уже невозможно было встретить на улицах. По улицам ходили их изможденные тени и просили, как милостыню, чтобы о них здесь поскорее забыли, потому что жить еще хочется, а как жить, если тень твоя, тень живого человека, ходит по далекому полунеродному городу, дышит чадом шашлычных и слушает местную, а то и турецкую, попсу?
Роза Францевна никогда не ходила на кладбище. Даже Георгия не посещала. В загробную жизнь она не верила и тем более отказывалась верить в реальность какой-либо своей помощи покойным родственникам. Зато ее приятельницы, завсегдатаи вечеров Русского культурного центра, реликтовые ташкентские старушки, водили по лесным некрополям своих внуков-старшеклассников, пишущих стихи о нравственном выборе, прекрасном небе, слезинке ребенка, русских березках и бедственном социальном положении народа. Стихи в столбик, с перекрестными рифмами, нервные очень и даже гневные, – так писал Сергей и каждое новое стихотворение спешил отнести на суд Ангелине Венцеславне, неугомонной энтузиастке и одной из основательниц Центра. Ангелина Венцеславна происходила из ссыльных поляков, но всю свою жизнь посвятила популяризации и пестованию русской культуры. Отозваться при ней недобрым словом о Пушкине, Есенине или Ахматовой было смерти подобно. Особенно о Пушкине, несмотря на то что последние два бывали в Ташкенте, а этот – нет. Что, впрочем, и помешало ей в свое время создать народный музей Пушкина. Зато в Ташкенте была первая в мире улица Пушкина. Обидно, что это обошлось без участия Ангелины Венцеславны, задолго до ее рождения.