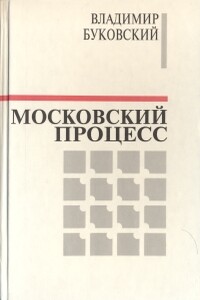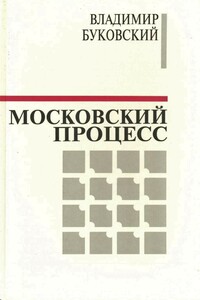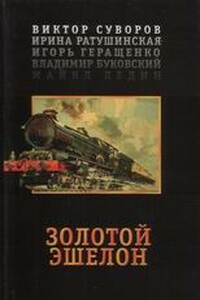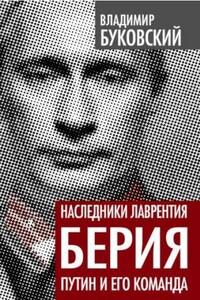Письма русского путешественника | страница 65
Джимми стал скульптором, написал книгу о своей жизни, стал известен уже не только своими похождениями. Наконец, женился. Но тут уж настала очередь общества мстить. После тринадцати лег в заключении, из которых почти семь — в «специальном подразделении», вполне мирно, без конфликтов с администрацией, власти вполне могли освободить его досрочно, если бы не яростное сопротивление общества. Образовалась целая кампания против его освобождения, доказывающая, что он просто всех обманывает, «прикидывается» изменившимся. Конечно же, одновременно эта кампания ведется и против «специального подразделения» как такового. Как можно: телевизоры, книги преступникам, когда и на воле-то телевизор не каждый себе позволить может? Что же это за тюрьма? Курорт какой-то. Где же наказание? Ну, и пошло, и поехало. Несколько раз «специальное подразделение» было уже на грани закрытия. Даже мне пришлось однажды за него вступиться. Наконец, от греха подальше, чтобы успокоить страсти, перевели Джимми в другую тюрьму, якобы «подготовить к освобождению». Пока что «специальное подразделение» не закрыли, но надолго ли?
Вот вам и терпимость демократического общества. Политической терпимости и того меньше. Достаточно вспомнить все эти «красные бригады», «красные армии», вечные драки между «левыми» и «правыми», взаимные обвинения партий, отчаянную травлю в печати, «демонизацию» противника. У нас, по крайней мере, политическая нетерпимость искусственная, продиктована сверху. Энтузиазма не вызывает.
Однажды во Владимирской тюрьме заспорили мы, что следует сделать с нашими партийными вождями, какой они заслуживают казни. Из одиннадцати человек в камере лишь один высказался за смертную казнь, один предложил публичную порку да еще один высказался в пользу заключения, где бы их заставили слушать их собственную пропаганду 24 часа в сутки. Остальные склонялись к формальному публичному осуждению их преступной политики без каких-либо персональных наказаний. Ни палачом, ни надзирателем, однако, никто из одиннадцати быть не захотел.
Конечно, трудно предсказать, каков был бы результат опроса всего населения. Известно только, что в СССР поразительно мало террористических попыток.
Еще одна иллюзия, возникшая и распространившаяся с легкой руки нашего же правозащитного движения, — вера в особое правосознание западного человека. Наша центральная идея сводилась к тому, что демократия строится на осознании каждым членом общества себя самого гражданином, «субъектом права», как изящно выражался Алик Вольпин. Отсюда вытекала и вся наша концепция «суверенитета человеческой совести», личной ответственности и, следовательно, пассивности и молчания как формы соучастия в совершающемся на твоих глазах преступлении. Мы искренне верили, что на Западе каждый человек — носитель демократии с высоким уровнем осознания пределов своего права. У нас же это все только в зачатке. Оттого-то нам прежде всего нужно бороться с «советским человеком», точнее — с его пещерным уровнем правосознания.