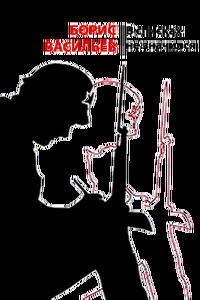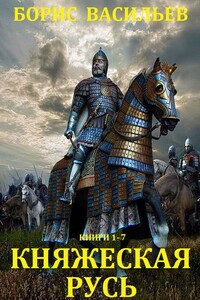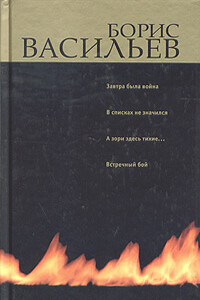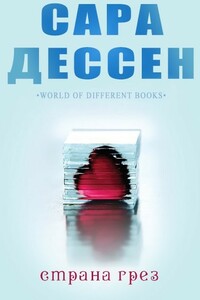Самый последний день... | страница 46
— Не любишь, что ли, веселых-то?
— Я для веселья, лейтенант, в цирк хожу. Клоунов смотреть.
— Дело, Кукушкин. Это — дело.
— Я ведь все равно все узнаю. Только не хочу к верному способу прибегать. Пока.
И так он сказал это «пока», что Ковалеву опять стало боязно за Веру и мальчишку: нет, нельзя было правду ему говорить, зверю этому. Никак нельзя!
— Ничего я ей не говорил, Кукушкин. — Семен Митрофанович, вздохнув, опустил глаза: он вообще не терпел вранья, а при исполнении служебных обязанностей в особенности. Но от правды сегодня могли пострадать безвинные, и он врал во спасение. — Тебя ждал, ну и калякал о чем-то…
— В деревню приглашал?
Знает, значит… Еще раз вздохнул Ковалев.
— Приглашал.
Круглые злые вишни на миг уперлись в его лицо, на миг сверкнули и спрятались. Кукушкин медленно провел ладонью по лбу, словно припоминая что-то, достал папиросы, протянул, не глядя:
— Закури моих, лейтенант.
— К своим привык…
Единственный это был человек, которому отказал на проводах Семен Митрофанович. Резко отказал, как отрезал:
— К своим привык.
— Ну, дело твое, — тихо сказал Кукушкин, прикуривая от собственного окурка.
Он курил медленно, опустив голову, рассматривая огонек папиросы. А вокруг гомонили, смеялись, плясали и пели, и играла радиола у Сереги на балконе. А Семен Митрофанович, отрезав Кукушкину все пути к дружескому общению, нисколько об этом не жалел.
— До чего же просто вы все решаете, — вдруг тихо, словно нехотя сказал Кукушкин. — Пьет да бьет — значит, надо воспитывать. Значит, кого-то жалеть надо, спасать надо, уводить надо. А на меня наплевать и растереть, да? Меня можно за стол не посадить, мне можно рюмки не поставить, а можно и в котельной избить без третьих глаз, как гвардеец тот говорит.
— Избить?
— Ладно, что было, то прошло: я не из жалостливых.
— А что же все-таки было?
— Знакомство, — криво усмехнулся водопроводчик. — Гвардейские сыны из меня непочтение к их папаше выколачивали. Тяжелые у них кулачки…
— Так что же ты сразу…
— Ладно, лейтенант, не пыли. Сказано: не из жалостливых я. Сам не жалуюсь и сам не жалею. Только с одного боку вы все глядите.
Ковалев подумал, что о самоуправстве Кирилла Николаевича надо непременно рассказать Степешко. Рассказать и обдумать меры. Поэтому спросил рассеянно:
— А что за вторым боком, с которого не глядим?
— Я, — сказал Кукушкин.
И замолчал. И Семен Митрофанович молчал, удивленный этим очень простым ответом. И так молчали они долго.
— Ты, Кукушкин…