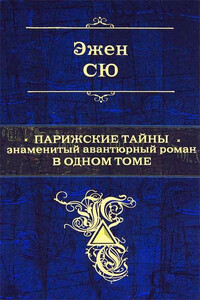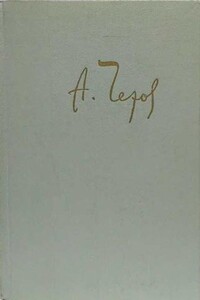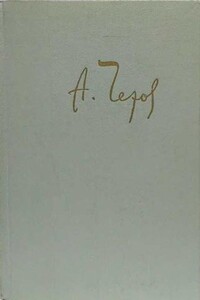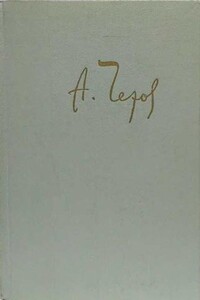Золотая рота | страница 72
И толпа отступила, осела и очистила место. И на это место шагнул Казанский, гордый, как триумфатор, бледный, грозный, прекрасный в своем величии и грозе.
— Вы позвали меня обманом, — начал его голос, звучно нарастая и крепчая с каждой новой нотой. — Вы позвали меня, как подлая, трусливая гниль. И я пришел, не чуя вашей подлости и засады. Потому что верил в вас и в себя. Чист я был перед вами. И думал, что и вы чисты. Я искал в вас людей! Человеческого в вас искал. Я хотел выудить в вас остатки души, хотел обчистить вас от парши, отскоблить, как паршивых овец. Гнало меня к вам, как суку к щенятам. И всю жизнь о вас думал, любя вас. Жалостью своей к вам горел. А вы что? Вы в чем упрекнули меня? Если трусы и воры сами и подлость в себе таите, так и во всех видите подлость и гниль. Сгноило вас, не отделаться вам от гнили этой и струпьев. Потому что гной ваш вам слаще меда. И смердите вы им и не чувствуете, и, не чувствуя, задохнетесь. Задохлись вы в нем совсем. Нет вам пути. Грех перерос вас, выше головы стал. Отупели, как овцы, как свиньи. Выбираете нового вожака, того, кто кричит громче. Дело. А то забыли, что мало криком одним взять. Правда нужна. Я тем и силен был, что правдой моей к вам вас и вел. А теперь хоть осталась правда, да веры нет в вас. А нет веры — любви нет. Почерпнуть неоткуда. Не старшина я вам больше. Вы верно сказали. Не потому, что вы не хотите меня, а я не вижу в вас правды и ухожу от вас. Будь по-вашему. Ухожу. Не осилить вам меня, и ухожу я от вас сильный, зная себя и то, что надо, зная. А вы слепые. Слабые, беспомощные, живите, как умеете. Чужой я для вас. Жил для вас прежде, теперь для себя жить буду. Хуже вам будет, на себя пеняйте. Худа в вас много самих. Не измыть вам всего из себя. Больше нет ничего для вас у меня. Все вынули и смяли своими руками грязными, смердящими. Прощайте все. Казанский ушел от вас. Так и знайте — ушел Казанский навсегда.
И он пошел прямо на толпу в сопровождении Марка, гордый и сильный своим бессилием перед нею. И толпа расступилась перед ним и пропустила его, подавленная, немая.
На фабрике случилось событие, о котором говорили все от мала до велика и в камерах, и в кладовых, и в управительских комнатах, и в служебных пристройках — всюду, где только могли говорить и рабочие, и досужие люди.
Внезапно, неожиданно нагрянул, против своего обыкновения, директор фабрики Шток и произвел сверхкомплектную ревизию работам. Всегда корректный и спокойный немец, он был неузнаваем на этот раз. Взволнованный, красный, возбужденный, зверем метался он по фабрике из одной камеры в другую, от одной машины к другой, всюду отыскивая погрешности зорким начальническим взором. За ним спокойный и уравновешенный, по своему обыкновению, ходил Лавров. В машине Мак-Ноба Шток нашел какое-то повреждение. Призванный механик почтительно опроверг подозрение принципала, и Шток, нимало оттого не успокоенный, понесся дальше, покачиваясь всей своей комически-толстой старообразной фигурой, посаженной на крохотные, почти детские ножки.