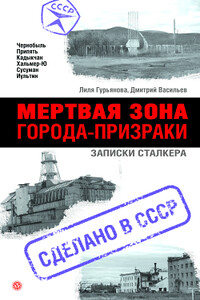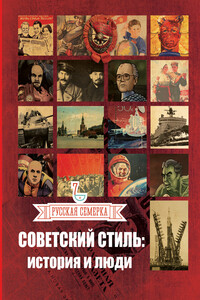Цеховики. Рождение теневой экономики. Записки подпольного миллионера | страница 55
4 июня 1947 года увидел свет Указ Президиума Верховного совета «Об уголовной ответственности за хищение государственного и общественного имущества» который и послужил основанием для нового этапа. С точки зрения создателей этого указа, он считался «более совершенным правовым инструментом». Во введении к Указу подчеркивалось, что он принимается в целях установления единой законодательной базы об уголовной ответственности за хищения по стране. Однако на деле это было совсем не так. От семи до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества или без нее за любую мелкую кражу. Указ 10 августа 1940 года, который позволил выделить в отдельную категорию небольшие преступления и соответственно предусматривал более мягкое наказание за них, был отменен. Среди других признаков ужесточения режима можно перечислить: отсутствие градации уголовной ответственности в соответствии со способом хищения (кража, грабеж, разбой, мошенничество, злоупотребление) и изменение меры пресечения. Наказание в виде десяти или двадцати пяти лет исправительно-трудовых лагерей стало стандартом для всех видов этого преступления.
Изменение законодательной базы в начале 1960-х годов положило начало следующему этапу в истории охраны социалистической собственности. Указ, датированный 4 июня 1947 года, представлял собой законодательный акт, не вписанный в уголовные кодексы республик, трансформировался в новое законодательство, вписанное в соответствующих главах всех республиканских УК (уголовных кодексов). Этот этап характеризовался градацией зависимости вынесенного приговора от способа, которым было совершено преступление.
Одновременно с новым уголовным законодательством существовали и другие формы правовых норм, которые также относились к охране режима социалистической собственности. В случае нанесения ущерба социалистической собственности была предусмотрена «ограниченная материальная ответственность». Она обозначалась совместным Постановлением ЦИК и Совнаркома от 12 июня 1929 года, которое впоследствии, в начале 1930-х годов, трансформировалось в трудовое законодательство (статья 83-6). Это законодательство предполагало возмещение ущерба в размере 1/3 зарплаты. А в некоторых случаях размеры возмещенного ущерба могли доходить до 2/3 среднемесячной зарплаты. Если правоохранительные органы усматривали в нарушении умышленное посягательство на государственную собственность, работник шел под суд.
Из приведенных выше выдержек становится понятно, что до настоящей законности СССР было далеко. Но этим утверждением уже никого не удивишь. Не удивительно и то, что экономическим законам был придан идеологический статус. Гораздо поразительнее другое. При всех карательных мерах и санкциях, которые направо и налево применяли к экономическим преступникам, система теневой экономики насквозь не только пронизала государственную систему торговли, но и стала практически неотделима от системы государственной власти в принципе. И дело не только в количестве коррумпированных чиновников. Я читал несколько трудов современных экономистов, оценивающих происходящее в те годы в СССР, и многие из них единодушно утверждают, что подпольная система торговли и производства была… выгодна государству. Эта мысль только на первый взгляд кажется бредовой, да и то человеку, совершенно незнакомому с историей теневой экономики в СССР. А на второй (более приближенный взгляд) – начинаешь понимать, что идея совершенно справедлива.