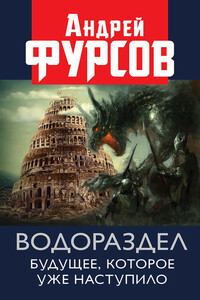Колокола истории | страница 110
То, что говорилось выше об асоциале, демонстрировалось главным образом на примере мегаполисов периферии и полупериферии Капиталистической Системы — Калькутты и Мехико, Лагоса и Манилы. Можно почитать, например, Гарсиа Маркеса и Салмана Рушди и увидеть те же явления и в небольших городах Латинской Америки, Азии. Да и Африки тоже. Но те же явления социологи и журналисты фиксируют и в городах Европы и Северной Америки, особенно там, откуда уходит промышленность, где идет деиндустриализация.
Конечно, в цивилизационном, «белом» ядре мощь и плотность капиталистической субстанции многократно усилены наличием всей субстанции, накопленной западной цивилизацией; здесь у капиталистической субстанции глубокие, разветвленные и прочные корни. Но и в этом ядре растет численность выходцев с Юга, несущих с собой код иных этнокультурных форм, иную повседневность и часто пополняющих неформальный сектор и «зону неправа», а потому самой логикой бытия выталкиваемых в асоциум, в противостояние социально организованному населению. Конечно, по крайней мере на ближайшие два поколения у европейско-буржуазной субстанции хватит и сил, и социального иммунитета. И все же лучше знать об опасности: кто предупрежден, тот вооружен.
Но, может, безбытность, безбытная, бессемейная повседневность, неорганизованный или принципиально, дезорганизованный быт — не такое уж опасное явление? К сожалению, это не так. История России конца XIX — начала XX в. — красноречивое тому свидетельство. А.С.Изгоев в блестящей статье «Об интеллигентной молодежи», опубликованной в сборнике «Вехи», на примере значительной части русской интеллигенции, прежде всего студенчества, показал общественную опасность социально неустроенных слоев населения, вся жизнь которых есть не что иное, как сознательное воспроизводство этого неустройства — будь то быт, работа, семья, воспитание детей и т. д. «Выходя из… своеобразной младенческой культуры, — пишет Изгоева, — русский интеллигент ни в какую другую культуру не попадает и остается в пустом пространстве» (5, с. 109). Буржуазную сферу он презирает, для народа он чужой; его сфера — безбытность, «невозможная смесь разврата и пьянства с красивыми словами о несчастном народе, о борьбе с произволом и т д.» (5, с. 107). Результат — отсутствие любви к жизни. Я бы сказал: к нормальной, организованной жизни. Изгоев очень уместно вспоминает мысль В.В.Розанова, сравнившего русское студенчество с казачеством, бесспорным носителем многих асоциальных черт. Другое дело, что находившаяся на подъеме самодержавная Россия в XVII–XVIII вв. смогла сломать хребет асоциалу тех времен и переварить его, а Россия эпохи Смуты конца XIX — начала XX в. этого сделать не смогла, подавилась; новый асоциал взял верх. Это было тем более легко, что, с одной стороны, вещественная субстанция вообще и тем более буржуазная были слишком слабы в России и не могли служить барьером на пути асоциальной лавины, а с другой — были слишком очевидны, чтобы возбудить социальную зависть и жажду черного передела. Но передела посредством захвата главной для Русской Системы субстанции. Таковой была Власть, и поэтому прежде всего именно ее, а не «вещественные факторы производства» и собственность стремились захватить те, кто победил в Русской Смуте 1861–1929 гг.