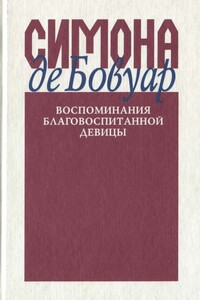Сломленная | страница 41
15 января. Надо бы открыть банку консервов. Или наполнить ванну. Но тогда в голове опять завертятся все те же мысли. Когда я пишу, я занята, это отвлекает. Сколько времени я не ела? Сколько дней не мылась? Я рассчитала служанку и заточилась в своих четырех стенах. Дважды звонили в дверь, много раз по телефону — я никому не отвечаю, за исключением восьми часов, когда звонит Морис. Он звонит каждый день, пунктуально, говорит встревоженным голосом:
— Что ты делала сегодня?
Я отвечаю, что виделась с Изабелью, Дианой или Колеттой, была на концерте, в кино.
— А вечером что будешь делать?
Говорю, что иду к Диане или Изабели, в театр. Он не отстает:
— У тебя все в порядке? Спишь хорошо?
Я успокаиваю его и спрашиваю, как снег. Так себе. И погода тоже не очень. Голос у него какой-то мрачный, как будто он отчитывается о нудной, утомительной обязанности, которую выполняет в Куршевеле. А я знаю, что, повесив трубку, он тут же, смеясь, вернется в бар, где его ждет Ноэли, и они будут пить вино и оживленно обсуждать события дня.
Но ведь я сама выбрала это, не так ли? Сама решила запереться в этом склепе. Я больше не знаю ни дня, ни ночи. Когда мне совсем плохо, когда становится невыносимо, я прибегаю к спиртному или глотаю транквилизаторы или снотворное. Когда становится чуть лучше, я принимаю возбуждающее и окунаюсь в детектив — у меня их изрядный запас. Когда тишина начинает душить меня, я включаю радио — и ко мне в комнату приходят голоса с далекой планеты. Я их понимаю с трудом. В том мире есть время, часы, свои законы, свой язык, заботы, развлечения, которые мне абсолютно чужды. До какой степени можно оступиться, оказавшись в полном одиночестве, в изоляции! Комната провоняла табачным перегаром и алкоголем. Повсюду просыпанный пепел. Сама я грязная. Простыни грязные. Грязное небо за грязными окнами, Грязь — это панцирь. Он служит мне защитой. Я никогда больше из него не выйду. Было бы совсем просто еще чуть дальше скользнуть в небытие, за тот предел, откуда не возвращаются. У меня в ящике есть все, что нужно. Но я не хочу, не хочу! Мне сорок четыре года. Это слишком мало, чтобы умирать. Это несправедливо! Жить я больше не могу. А умирать не хочу.
Две недели я ничего не писала в этой тетради, так как перечитывала ее. И поняла, что слова ничего не значат. Ярость, кошмары, ужас — этого не выразить словами. Я переношу события на бумагу, когда собираюсь с силами, в отчаянии или в надежде. Но полный крах, отупение, распад не отражены на этих страницах. Да и потом в них столько лжи, столько самолюбия!