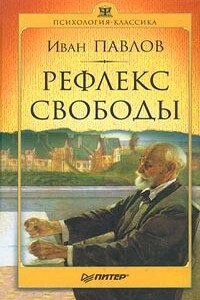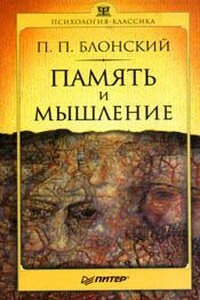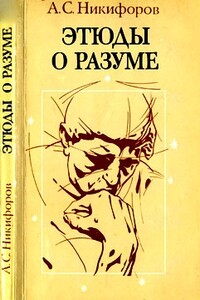Проблемы психологии народов | страница 28
Хотя в одном случае средством для выражения усиления понятия служит удлинение гласной, в другом — удвоение или повторение слова, однако обе эти формы выражения сродны между собою: припомним хотя бы распространенную? в особенности в романских языках, форму превосходной степени, полученную путем повторения слова, например, alto alto = очень высоко[ 14 ], или относящиеся к ранним стадиям развития языка удвоения слов для повторяющихся, парных предметов или процессов. Можно, конечно, сказать, что отношение между словом и его значением в этом случае более наглядно. Однако приведенные выше звуковые метафоры для выражения различной величины предметов и расстояния их от нас во всяком случае не уступают в этом отношении словообразованиям типа "папа, мама". В обоих случаях то, что должно было бы остаться недостоверным для нашей степени развития, которую нельзя смешивать с пониманием первобытного человека, разъясняется благодаря несомненному отношению к ясным, более очевидным и для нас явлениям подобного же рода и на основании числа случаев. Мне кажется поэтому, что и в данном случае возможно допустить вероятность подобного объяснения, наряду с другими образованиями? по аналогии, без всякого возражения допускаемыми нами для объяснения известных звуковых изменений. Напротив, совершенно неприемлемым кажется мне аргумент Пауля: без достаточного историко-лингвистического исследования, которое во многих языках немыслимо, ничего нельзя решить о значении подобных форм. С этой точки зрения мы не могли бы признать звуковыми образами даже такие формы, как "belfern" (тявкать), "plappern" (болтать), "poltern" (стучать) и мн. др., так как историко-лингвистическое исследование приходит относительно них лишь к тем выводам, что к известному времени они уже имеются налицо, но о происхождении их обыкновенно ничего неизвестно. С вопросом о том, будет ли известное звуковое образование как-либо "ономатопоэтическим", историко-лингвистическому исследованию вообще нечего делать. Равным образом безразлично для решения этого вопроса, было ли известное слово ономатопоэтическим с самого начала или стало таковым лишь в процессе развития речи. Из истории мы в крайнем случае можем лишь почерпнуть, что в известных случаях слово по законам перехода звуков, которые, сами по себе взятые, независимы от звукоподражаний и звуковых метафор, сделалось как бы ономатопоэтическим. Но, во-первых, это может иметь место лишь в отдельном случае, а не аналогичным образом и в одних и тех же классах понятий большого числа языков, относящихся к различным лингвистическим семействам: при таком допущении мы неизбежно должны будем приписать случаю противоречащую всем правилам вероятности силу. В таком случае мы действительно с равным правом могли бы допустить, что слово "кукушка", как утверждали некогда