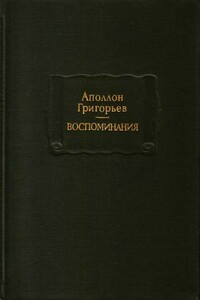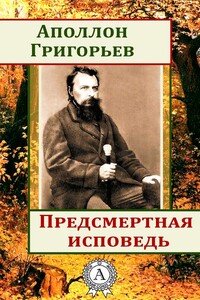Великий трагик | страница 13
Когда пройду я, бывало, _Гибеллину_
И выбравшись на площадь _Триниту_.
Итак, мы пошли к театру del Cocomero, спеша медленно и продолжая прерванный разговор.
- Вы говорите - условия! - начал я... - Да вот что, - и я остановился идти и остановил Ивана Ивановича за металлическую пуговицу его бархатного пиджака... - Истинный трагик такая же редкость, как белый негр. Право... Физиономия у трагика должна быть, особенная, голос особенный и, par dessus le marche, {сверх всего этого (франц.).} душа особенная.
- Но именно par dessus le marche, - заметил Иван Иванович. - Одной души трагической мало: надобно, чтоб средства у нее были выразить себя...
- А что такое трагическая душа, Иван Иванович?
- Бог ее знает, что она такое, - отвечал он. - Может быть, именно то, что вы называете веянием... {30}
- Да, - сказал я, почувствовавши себя на своей почве... - Трагик как Мочалов есть именно какое-то веяние, какое-то бурное дыхание. Он был целая эпоха - и стоял неизмеримо выше всех драматургов, которые для него писали роли. Он умел создавать высоко-поэтические лица из самого жалкого хлама: что ему ни давали, он - разумеется, если был в духе - на все налагал свою печать, печать внутреннего, душевного трагизма, печать романтического, обаятельного и всегда - зловещего. Он не умел играть рыцарей доброты и великодушия... Пошлый Мейнау {31} Коцебу вырастал у него в лицо, полное почти байронской меланхолии, той melancolie ardente, {пламенной меланхолии (франц.).} которую надобно отличать от меланхолии, переводимой на язык хохлацкого жарта мехлюдией...
- А из Ляпунова-то в "Скопине Шуйском" что он делал? - с живостию перебил Иван Иванович... - Он уловил единственную поэтическую струю этого дикого господина - я говорю о Ляпунове драмы, а не о великом историческом Прокопии Петровиче Ляпунове, - он поймал одну ноту и на ней основал свою роль. Эта нота - стих:
До смерти мучься... мучься после смерти!
Ну и вышел поэтический образ, о котором, вероятно, и не мечталось драме, рассчитывавшей совсем на другие эффекты.
- То-то и дело, - перервал в свою очередь я, - Мочалов, играя всегда одно _веяние_ своей эпохи, брал одну _струю_ и между тем играл не страсти человеческие, а лица, с полною их личною жизнию. Как великий инстинктивный художник, он создавал портреты в своей манере, в своем колорите - и, переходя в жизнь представляемого лица, играл все-таки собственную душу - т. е. опять-таки романтическое веяние эпохи. Коли хотите, можно было критиковать каждое его создание - как объективное, даже самое лучшее, даже Гамлета. Ведь Гамлет, которого он нам давал, радикально расходился - хоть бы, например, с гетевским представлением о Гамлете. {32} Уныло зловещее, что есть в Гамлете, явно пересиливало все другие стороны характера, в иных порывах вредило даже идее о бессилии воли, которую мы привыкли соединять с образом Гамлета...